Адрес: г. Москва, Ивановский пер., д. 2 (Малый Ивановский пер., д. 2)
Ивановский концентрационный лагерь принудительных работ открыт в июле-августе 1919 года. До 1 декабря 1922 Ивановский концентрационный лагерь особого назначения, затем Ивановский переходный исправительно-трудовой дом / Ивановский исправдом. С 18 декабря 1924 1-я Московская фабрично-трудовая колония с переходным исправительно-трудовым отделением / 1-я МФТК. C 16 октября 1925 Московский Исправительно-трудовой дом с переходным исправительно-трудовым отделением / МИТД. С 13 октября 1926 Экспериментально-пенитенциарное отделение государственного института изучения преступности и преступника / ЭКСПОГИПП / ЭКСПОГИ. Не позднее октября 1929 2-я Московская фабрично-трудовая колония. С февраля 1930 1-й Корпус 1-го отделения 6-й фабрично-трудовой колонии «Комбинат». С 30 марта 1930 Ивановское отделение 6-й фабрично трудовой (кожевенной) колонии. Закрыто место заключения в январе-феврале 1931 года. Часть монастырских зданий и сейчас занимает вуз МВД.

Ивановский монастырь 1978-79. Фото: pastvu.com
Заточение и истязание
Дооктябрьская история монастыря кратко описана в 1924 году: «Вверенный мне Исправдом расположен в зданиях бывшего Ивановского женского монастыря. Год основания этого монастыря точно не определен. По некоторым описаниям приписывают основание великому князю Иоанну III, другие — великой княгине Елене Глинской — матери Грозного и третьи самому Грозному. Монастырь этот несколько раз опустошался пожарами. Надо полагать, что до 1701 года монастырь этот был деревянный, т. к. указом Петра I в 1701 году, повелено было строить в монастыре каменные кельи.
О прежнем быте этой обители есть упоминания, что здесь хоронились не только усопшие, но и в безмолвных стенах его были заключенные и опальные.
Сюда присылались под видом сумасшедших и секретных женщины из сыскного приказа, из тайной розыскных дел канцелярии, раскольницы и замешанные в политических и уголовных делах; в числе их бывали и вытерпевшие жестокие истязания в застенках и как говорится «очистившиеся кровью». Их содержали под особым надзором, в особых кельях, подвалах и застенках.
В царствование Екатерины II была привезена для жительства одна женщина не старых лет, по видимому знатного происхождения. Неизвестно, какое ея было в свете значение, какое имя и фамилия. В одно время с этой личностью содержалась и другая личность Дарья Николаевна Салтыкова, известная под именем Салтычихи, жестокое и бесчеловечное обхождение которой с ея крепостными рабами превосходило всякое воображение.
В 1812 году монастырь опять потерпел от нашествия французов и в 1859–1878 году был волне восстановлен.
С революцией в 1919 году монастырь был отведен под Ивановский концентрационный лагерь особого назначения. В 1922 году он перешел в ведение ГЛАВУМЗАКа, а в 1923 переименован в Ивановский переходный исправтруддом и в конце этого же года переименован в Московскую фабрично трудовую колонию с переходным исправительно-трудовым отделением, а в 1924 г. в Московский исправтруддом с переходным исправительно-трудовым отделением. Начальник исправтруддома Улановский» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 17 Л. 56). Немонастырская история монастыря началась не в 1919 году, а на год раньше.
Очищение
ВЧК предполагала занять Ивановский монастырь в конце августа 1918 года, когда, подавив несколько мятежей, революционная власть готовилась к подавлению новых. За хозяев монастыря ходатайствовал Николай Дмитриевич Кузнецов — юрист, представлявший и защищавший клириков и верующих. Обращаясь в Совет народных комиссаров, он просил отменить распоряжение числящейся «при Совнаркоме» Чрезвычайной Комиссии. Бывший присяжный поверенный апеллирует к праву, ссылается на декрет о свободе совести, указывает на самоуправство ЧК, не имеющей права закрывать монастырь, напоминает о нуждах прихожан и положении двухсот семидесяти человек, которые живут в монастыре и которым больше жить негде. Заявление в Совнарком Кузнецов иллюстрирует сценой:
«22 Августа днем в Ивановский женский монастырь в Москве на Солянке по Ивановскому переулку явились два человека, которые осмотрели некоторые помещения, ничего не объясняя, и, выпив по стакану чая, они ушли, а после ухода на столе нашли сложенную бумагу, в копии при сем прилагаемую.
Она оказалась ордером Чрезвычайной Комиссии при Совете Народных Комиссаров по борьбе с Контрреволюцией №5525 от 22 Августа 1918 года на имя Товарища Моздревича об очищении монастыря в течение 3 дней. На оборотной стороне ордера сделана карандашом надпись: «Начальнице Ивановского монастыря на память об ужасных большевиках. 22. VIII». Подпись автора ея неразборчива». На копии ордера под инскриптом Кузнецов воспроизвел ясно читаемое начало подписи: «В. Кан». (Ф. Р130. Оп. 2. Д. 159. Лл. 3, 7).
Хотя ВЧК открывала в московских монастырях лагеря, ордер Моздревича, возможно, этого не предполагал и не был связан с мерами революционного устрашения: массовыми арестами, расстрелами и взятием заложников. Его выписал «отдел стр.<атегического> упл.<отнения> ВЧК», который, в частности, «уплотнял» жильцов верхних этажей для устройства в их квартирах оборонительных пикетов. Для организации обороны мог выглядеть подходящим высоко расположенный и окруженный стеной Ивановский монастырь.
Монастырь по этому ордеру «очищен» не был. Судя по вышедшему из сна городничего описанию реквизиции — явились, посмотрели, выпили чаю и ушли — и отсутствию последствий, оставленный «на память» ордер — «годен на трое суток» — мог устареть в связи с переменой административных планов. В документах лагеря сведения об этом эпизоде не разысканы.
Весной 1919 года, когда были открыты фронты гражданской войны, в Москву начали отправлять заложников из других городов. Подробнее о тех, кого брали в заложники, — ниже. В самой Москве также становилось все больше арестованных ВЧК. Для них в это время были организованы Покровский и Новопесковский лагеря, а также начали отправлять больше заключенных в Новоспасский монастырь, лагерь в котором занимал все больше помещений. С июня лагерем стал Андроньевский монастырь и тогда же заключенных уже отправляют в лагерь у станции Кожухово, который был открыт еще для пленных Мировой войны. В это же время лагерь опять начали организовывать в Ивановском монастыре.
Третьего апреля президиум МСРКиКД утвердил «постановление жилищно-земельного отдела о предоставлении Ивановского монастыря на Варварке (так) для организации концентрационного лагеря с тем, чтобы монахини были переведены в другие женские монастыри, не разрушая организации портновской артели. <...> Помещение Ивановского монастыря передать в распоряжение концентрационного лагеря» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 12). На следующий день, четвертого апреля, был выписан еще один ордер «Предоставить для нужд ВЧК помещение Ивановского женского монастыря по м. Ивановскому пер.». (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 7).
В отличие от лагерей на Покровском бульваре, в Новопесковском переулке и Новоспасском монастыре лагерь в Ивановском монастыре открыт был только через несколько месяцев. Монастырь защищало то, что обшивавшие армию — к этому времени Красную — монахини стали портновской артелью, которая упомянута в постановлении президиума Совдепа. Выселить артель идеологически и административно было сложнее, чем «очистить» монастырь от праздных монахинь. Еще в 1918 году приходская община, ища у Кузнецова защиты, писала с небольшим церковным акцентом, что выселяют «труждающихся бедного крестьянского сословия» (Ф. Р130. Оп. 2. Д. 159. Л. 4). В 1919 году за монастырь заступился Совет депутатов Городского района Москвы. Его юридический отдел вразумлял Особый отдел ВЧК: «Выселение в настоящее время монахинь <...> не целесообразно и не в интересах Советской республики. <...> 1) Около 300 монахинь этого монастыря заняты шитьем белья для Красной армии, с выселением их последняя потеряет вполне оборудованную мастерскую и триста человек работниц, что безусловно существенно отразится на заготовке белья для армии; 2) <...> Часть монахинь обслуживает Советское учреждение – «Дом матери и ребенка» на Солянке; 3) Настроение так называемых верующих в данное время очень нервное вообще в связи с проведением в жизнь декрета «об отделении церкви от государства» и в частности со вскрытием мощей Сергия и выселение из трудового монастыря монахинь еще больше будет волновать общество, а духовенство использует этот факт против Советской Власти. <...> Юридический Отдел Совдепа Городского района полагал бы выселение монахинь Ивановского женского монастыря отменить; в случае же крайней необходимости, можно занять помещения Сретенского или Златоустинского монастырей, где монахи разъехались и теперь в одном живет лишь 4 человека, а в другом 7-8 человек совершенно ничего не делающих и выселение которых не вызовет ропота верующих и не нарушит интересы государства. Заведующий отделом Ефремов. <на визе — апрель 1919 года>» (История монастыря в советский период / ioannpredtecha.ru/2014/11/06/istoriya-monastyrya-v-sovetskij-period).
В апреле большую часть монастыря от труждающихся очистили, а «23 апреля 1919 года был заключен договор с общиной верующих, состоявшей из сестер и прихожан монастыря (всего 560 человек), о передаче им «в бессрочное пользование» двух храмов: соборного храма Св. Иоанна Предтечи и больничной Елисаветинской церкви» (История монастыря в советский период).

Слева кельи с Елисаветинской церковью, 2009 год Фото: Чеботарь А. М. / temples.ru
Получив решение Совдепа и ордер, ВЧК лагерь в монастыре не открыла. Через полтора месяца, 16 июня 1919 года, Отдел принудительных работ НКВД, которому в это время подчинялись лагеря, пишет в ВЧК: «Ввиду крайне спешной необходимости в изолированных помещениях для срочного размещения имеющих прибыть в Москву больших партий \эшелонов\ пленных особого назначения\ заложников буржуазии\ в составе до 50 000 человек из рижского района и в отсутствии возможности подыскать в течении ближайших дней соответствующего помещения, отдел находит, что для названной цели наиболее подходящим помещением является Ивановский женский монастырь, не только в силу своей вместимости, но еще и потому, что охрана особо серьезного элемента не потребует большой затраты сил, ибо монастырь,
окруженный массивной каменной стеной, представляет собой вполне надежное убежище.
Кроме того, внутреннее расположение зданий монастыря позволяет организовать одновременно с лагерем центральную больницу с целым рядом отделений по роду болезни и закрытыя мастерские, что крайне трудно совместить при других условиях и за полным отсутствием подходящих зданий. <…> прошу о предоставлении отделу Ивановского монастыря. Завотделом Попов» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 6).
7 июля Совдеп снова издает постановление «о занятии Ивановского монастыря под концентрационный лагерь». Отдел принудительных работ просит «ордер на право реквизиции всего инвентаря и обстановки находящейся в этом монастыре», а 9 июля требует «в пятидневный срок те к 14-му июля освободить все квартиры и комнаты в здании Ивановского монастыря от проживающих там монахинь. <...> Неспособные к труду будут обеспечены за государственный счет». 11 июля комендант соседнего лагеря на Покровском бульваре и уполномоченный по организации Ивановского лагеря Борис Григорьевич Семенов, предлагая «сокращение штатного числа сотрудников», уже просил «разрешить слияние новообразуемого Ивановского лагеря с Покровским». После чего Семенов, «чувствуя в себе достаточный опыт и способность к работе в лагерях, смог бы взять на себя соединение обоих названных лагерей и руководство из деятельностью в дальнейшем». Через неделю рачительный организатор «отправляется в командировку по делам чрезвычайной важности в г. Тамбов». (Ф. Р393. Оп. 89. Д, 38б. Л. 10, 13). Лагеря не объединили, и 15 августа комендантом Ивановского лагеря назначили Карла Каземировича Квятковского, побывавшего уже комендантом Андроньевского лагеря. Семенова и еще 7 покровских администраторов в ночь на 24 октября расстреляли «за взяточничество, вымогательство, незаконное освобождение заключенных, пьянство и разврат» (Расстрел шайки Преступников / Известия 28.10. 1919).
Монахини, не рассчитывая сохранить весь монастырь, просят разрешить им остаться в кельях рядом с Елизаветинской церковью. В день, назначенный для освобождения монастыря, заступники привели комиссию: Отдел Принудительных работ представлял М. Л. Дрейзин, а Московский совдеп — Ф. И. Марков, заведовавший в нем отделом. Комиссия согласилась, «что заявление председателя приходской общины Широкова об оставлении для 200 человек монахинь одного небольшого корпуса занимаемого игуменьей и домовой церквой заслуживает удовлетворения, так как может быть совершенно изолирован от лагеря и тем самым не будет нарушена работа монахинь на Красную армию. Помещение оставлено до 200 человек не приносило существенной пользы лагерю. Кухня, баня, прачешная будут в распоряжении лагеря». Мнение своего представителя в Отделе принудительных работ не разделяли, поскольку отдел настаивал на выселении, срок которого был передвинут на «к 5 августа» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Лл. 1-3, 9). Одновременно с выселением монахинь лагерь устраивался в остальной части монастыря. Формально лагерь был открыт, по справкам 1919, 1920 и 1921 годов, 13 или 15 августа 1919 года. В описании 1922 года «лагерь был организован в данном помещении с сентября 1919». (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 247; Д. 69б Л. 42; Д. 201. Л. 23). Последняя дата — из тех сведений, что «получены от администрации лагеря». Вероятно, во второй половине августа и начале сентября в лагерь прибыли крупные партии «заложников буржуазии».
В июле, еще до бюрократического открытия, в нем уже скорее всего жили заключенные, возможно, числившиеся в Покровском лагере, комендант которого Семенов сообщал 11 июля о решении «перевести заключенных из Покровского лагеря в Ивановский <…> для необходимого ремонта» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 38б. Л. 10).
3 июля 1919 года в Ивановский лагерь отправили «бывшего губернатора» Горчакова.
Телефон Ивановского лагеря уже указан в приказе от 8 июля. 14 июля комендант требовал отпустить аванс для покупки лошадей и повозок, а к 13 августа Ивановский лагерь задолжал Андроньевскому за взятый у того инструмент (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 21. Л. 8; Д. 30. Л. 51; Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 118. Л. 1). Артель монахинь в монастыре осталась, но через месяц началось выселение монастырского причта. Комендант лагеря 16 сентября просит «распоряжения об очищении дома прилегающего к Ивановскому лагерю — быв. Женский монастырь, так как таковой необходим для караульной команды Ивановского лагеря». Священников выселили, но как скоро — неизвестно.
Защитника монастыря Николая Дмитриевича Кузнецова тогда же, в августе 1919 года, арестовали, в ноябре 1920-го приговорили к казни, замененной в январе 1921 года заключением в концлагерь. До мая Кузнецов находился в тюрьме, и в декабре 1921 года его освободили. Сведениями о месте заключения не располагаем. После освобождения продолжал защищать клириков и мирян. Предположительно, умер в ссылке в начале 1930-х годов («Заклейменные властью...»).
В самом раннем, из тех, какими мы располагаем, описании, сделанном 22–23 сентября 1919 года, лагерь состоит из комнат: «В Отдел принудительных работ при НКВД ревизора отдела Угарова доклад <…> помещение совершенно соответствует своему назначению. Удобно как со стороны вместительности так и со стороны охраняемости и санитарной. Всего в лагере более 130 комнат занятых следующим образом. Канцелярия 3 комнаты, жилье сотрудников 4 комнаты, околодок 8 комнат, для заключенных 111 комнат. Из них 4 могут вместить от 30 до 50 человек и 97 комната от 2 до 6, в среднем 4 человека, 5 комнат заняты мастерскими. Одна отведена театральной зале (вмещает от 300 до 400 человек) имеются еще 4 длинных со стеклянными стенами коридора, из них один занят столярно-плотницкой мастерской, есть баня, прачешная, сарай и подвал. Женская часть от мужской отделена (отдельный корпус), караульное помещение совершенно изолировано от двора лагеря. Все здание обведено высокой каменной стеной, корпуса отстоят от стены не менее как на 5 шагов, окна решеток не имеют». (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б Л. 247). Крытые галереи, в одной из которых находилась мастерская, соединяли монастырский собор с келейными корпусами. Реконструировать расположение комнат позволяют описание монастыря и более поздние описания лагеря.
В наиболее подробном описании, составленном 30 июня 1922 года,
«лагерь занимает 3/4 всего владения монастыря. <…> за исключением собора и прилегающего к нему двухэтажного каменного корпуса занятого монахинями и имеющего самостоятельный выход в б. Ивановский переулок. <…> с остальной частью монастыря, т.е с лагерем сообщается <….> постоянно находящейся на запоре калиткой, ключ от которой хранится у коменданта лагеря» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42. Далее не отмеченные особо сведения о лагерных помещениях выбраны из этого документа).
Монастырские названия в описании лагеря не использовались, но его устройство проясняется в сопоставлении с опубликованным описанием монастыря 1914 года (Давиденко Д. Г., Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь. История Московского Ивановского девичьего монастыря в документах XIX – начала XX века. М., 2018. С. 605–608).
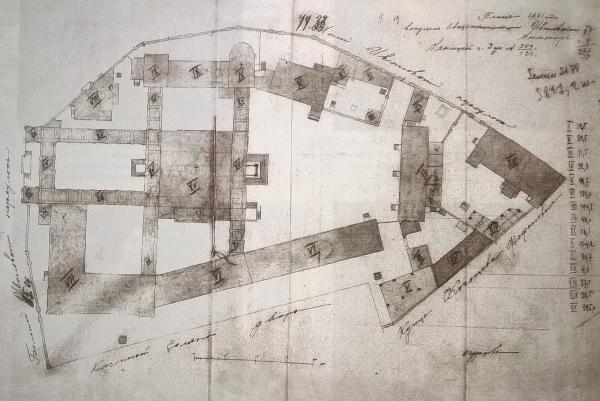
План Монастыря. Источник: Давиденко Д. Г., Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь...
За монахинями остались не покои игуменьи, о которых они просили, а монастырская больница. Она так же примыкала к Елизаветинской церкви, но с северной стороны. Именно эта церковь названа в лагерном описании домовой. Кроме нее и главного собора церквей в монастыре нет. В монастыре жили около трехсот монахинь и послушниц. К концу 1920 года их, по воспоминаниям Иоанникия Алексеевича Малиновского, осталось сорок (Малиновский И. А. Дневник. Архив общества «Мемориал» Ф. 2. Оп. 8. Д. 97 — далее все сведения из этого источника особыми ссылками не снабжаются). Жили они в 10 комнатах в здании, где раньше на первом этаже располагались службы при больнице: 6 комнат с 13 окнами — количество окон очевидно соотносится с размером помещения, а на втором этаже больница: 3 комнаты в 14 окон, и в пристройке, где помимо церкви преподобной Елизаветы находилась большая — с четырьмя окнами — келья. (9 на плане). В этом же месте в ограде монастыря, на углу Большого (сейчас ул. Забелина) и Малого Ивановских переулков находилось двухэтажное здание монастырской просфорни с часовней Иоанна Крестителя. (пункт 8 на плане). Эти здания не перечислены среди помещений лагеря и не отделены оградой от здания больницы. В просфорне могла находится швейная мастерская, в которой работали монахини.
В трех четвертях монастыря лагерь занимал «4 больших каменных корпуса и целый ряд одноэтажных каменных и деревянных строений и служб. <...> 1-й одноэтажный корпус — управление комендатуры, канцелярия, квартиры коменданта и его помощника по адм части». Вероятно, комендант с помощником и канцелярией занял «покои игуменьи», состоявшие из 9 комнат с 21 окном. Они примыкали к Елизаветинской церкви с южной стороны, и о них просили члены приходской общины. В этом же здании находились «в полуподвальном этаже кельи монахинь при игуменьи» <3 комнаты, 4 окна>. Это единственное одноэтажное здание в лагерной части монастыря. Правда, описание лагеря не вполне точно, поскольку покои были деревянные, но облицованы кирпичом. Рядом находились «кухни при покоях игумени <3 комнаты, 4 окна>, кладовая, сарай для дров», которые «должны были остаться» и остались в «распоряжении лагеря». Сейчас бывшие покои и кухня составляют строение 4 дома 2/4 по Малому Ивановскому переулку (пункты 10 и 11).
По описанию 1922 года, «2-й двухэтажный каменный корпус занимает женское отделение лагеря, в первом этаже заключенные женщины, а во втором квартиры надзирателей и вольнонаемных сотрудников». Женский корпус упоминается в заявлениях заключенных уже в начале ноября 1919 года. Им стали квартиры монастырского причта, которые в описании 1914 года выглядят так: «1 й этаж: квартира священника Никольского <5 комнат, 7 окон>, квартира диакона Cоколова <3 комнаты, 6 окон>, квартира псаломщика <2 комнаты, 4 окна>. 2-й этаж: квартира диакона Скворцова <5 комнат, 8 окон>, квартира священника Лебедева <6 комнат, 9 окон>» В монастыре несколько двухэтажных строений, но только это находится не «в ограде», то есть выходит окнами в переулок. В описании лагеря 1921 года отмечено, что «только один женский корпус выходит на улицу, <...> но окна с железными решетками» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 193). Сейчас это дом 4 строение 1 по Малому Ивановскому переулку (пункт 13).
Самое крупное лагерное здание — «3-й большой трехэтажный корпус с 2-х этажной пристройкой к нему занят мужским отделением, в первом этаже главного корпуса помещается типография, а во 2-м и 3-м камеры заключенных, первый этаж пристройки занят большей частью бывшим околодком, частью складами типографских машин и бумаг, а второй этаж частью переплетной мастерской, частью камерами карантинного отделения лагеря», восемью, как отмечено выше.
В 1923–1924 годах он называется «3-х этажный каменный корпус №1 заключенных». Это монашеские кельи вдоль западной ограды монастыря, а пристройка — здание на северо-западном углу монастыря — трапезная. В 1914 году это «<3-х этажный корпус> подвал: склад принадлежностей <5 отделений, 13 окон>, 1 этаж: кельи <23 комнаты, 44 окна>, 2 этаж то же <23 комнаты, 44 окна>, 3 этаж то же <23 комнаты, 42 окна>. <пристройка> подвал: ледники <3 окна>, мучной склад <одно отделение, 1 окно>, склад картошки <одно отделение, одно окно>. 1 этаж: трапезная <1 комната, 6 окон>, кухня при трапезной <4 комнаты, 7 окон>, хлебная одна <2 окна>, кельи трапезных сестер <5 комнат, 5 окон>, портновская мастерская <2 комнаты, 6 окон>. 2-й этаж: рукодельная <2 комнаты, 10 окон>, кельи рукодельных сестер <12 комнат, 12 окон>, портновская мастерская <1 комната, 6 окон>. В этом же здании, вероятно, находилась и монастырская гостиница. В 1921 году ревизор Красного Креста поясняет, что «под камеры обращены комнаты прежней монастырской гостиницы и кельи»(Ф. Р8419. Оп. 1. Д. 95. Л. 1)
Упомянутая небольшая лагерная лечебница — «околодок» — в конце 1919 начале 1920 года располагалась в восьми комнатах, затем в девяти. Больные заключенные занимали кельи трапезных сестер, портновскую мастерскую и хлебную комнату. До мая 1922 года больница «помещалась в 1 этаже главного мужского корпуса. <...> занимала вполне изолированное помещение с отдельным входом <...> 9 комнат среднего размера». В одной была ожидальная, в другой — большая амбулатория с зубоврачебным кабинетом и перевязочная. В третьей — аптека. «4 и 5 — изолятор на 6 коек, с двумя отделениями мужским и женским на 3 койки, 6 — женская палата на 8 коек, 7 и 8 мужские палаты на 11 коек». В последней была «дежурная комната среднего медицинского персонала и канцелярия больницы». Так же в больнице были две кладовых, ванная, сарай для дров, погреб.
Вероятно, самая большая — 6 окон — трапезная комната и служила театральной залой. Зимой– летом 1921–1922 годов спектаклей было так мало (подробнее об этом ниже), что театральное назначение трапезной в описании лета 1922 года не отмечено. Другой комнаты, которая могла быть «отведена театральной зале», в описании монастыря нет. В течение дня трапезная могла быть переплетной мастерской, а вечерами — театром.
Сейчас оба здания, кельи и трапезная, надстроены и составляют два сомкнутых пятиэтажных строения. Южное — надстроенное над кельями — непропорционально узко. Это строения 1 и 2 дома 2/4 по Малому Ивановскому переулку (пункты 6 и 7). В четвертом лагерном корпусе к 1922 году заключенных не было: «2-х этажный корпус с подвалом (административно-хозяйственный) занят в подвальном этаже баней. 1-й этаж прачешной, являющейся одновременно и кубовой, комнатами для семейных надзирателей, 2-й этаж наружной охраной лагеря — милиция и внутренней — надзиратели». В описании 1924 года в этом здании на один этаж больше: «3-х этажный каменный корпус №2 надзора, банное отделение — полуподвальное помещение». О том, что это то же самое здание, говорит то, что в нем есть баня и живет охрана. Вероятнее, что в этом описании этажом названа нижняя часть здания, которая в 1922 году считалась подвалом. Здание стоит на склоне и его южный фасад выше северного. С юга оно отделяет большой монастырский двор от двора и домов причта. В 1914 году в нем были: «подвал склад хоз принадлежностей <4 отделения, 4 окна>, 1 этаж: кельи <4 комнаты, 8 окон>, прачешная одна <окон 6>, дворницкая <2 комнаты, 2 окна>; 2 этаж: живописные мастерские <5 комнат, 23 окна>.
До мая 1922 года в этом здании также находились заключенные: «до ликвидации лагерной больницы 1. 5. сг <сего года> при лагере имелось специальное карантинное отделение, находившееся в первом этаже хозяйственно-административного корпуса <…> четыре комнаты 20 человек <...> баня, карантин, ГЕЛИОС <установка для дезинфекции горячим воздухом – ЕН> В настоящее время занято квартирами семейных надзирателей». Надзиратели заняли только кельи, поскольку продолжала действовать «баня в нижнем этаже хозяйственно административного здания. Единовременная вместимость 25–30 человек»,

Ивановский концлагерь. Фото: архив общества «Мемориал»
Комнаты карантина различались размером. Малиновский записал, что в карантине его «поместили в маленькой комнатке вместе с прибывшими накануне Никитиным и студентом Паниным. Через два дня освободилась соседняя камера на 6 чел». В этой келье-комнате-камере шесть человек и жили: «моими товарищами по карантинной камере были Никитин, Голосов, Емельянов, Панин и белорус, кажется, Кошневач». Вероятно, Малиновский жил на первом этаже: сначала в бывшей дворницкой, а затем в келье с двумя окнами. Сейчас это строение 2 дома 4 по Малому Ивановскому переулку (пункт 2 на схеме).
В лагере «площадь двора разделяется постройками на 4 части: общий двор (мужского корпуса), двор женского корпуса, черный двор, и хозяйственный (обозный)». Общим двором или двором мужского корпуса была главная монастырская площадь к югу от собора. Три другие двора находились в южной части лагеря рядом с бывшими домами причта. На плане виден большой двор перед с домом священнослужителей — женским корпусом. Очевидно, это «женский двор»: «Ивановский лагерь. Женская половина. Камера 3» записывает свой адрес заключенная Марта Клейбер. Означал он то же, что и «женский корпус», поскольку относится к тому же времени. На запад от него находится лагерный хозяйственный (обозный) двор. В монастыре там были каретный сарай с конюшней и тележный сарай (пункты 4 и 5 соответственно). В июне 1922 года «лагерь имеет одну лошадь и один полок».
Рассчитан — находилось
В 1917 году в монастыре жило больше 300 человек: монахинь, послушниц и священников. В 1918 году Кузнецов ходатайствует о двухстах семидесяти. Заключенных в монастырском лагере было вдвое больше. По справке от 23 октября 1919 года, в лагере «помещено 593 человека». К 11 ноября заключенных стало немного меньше, но комендант просит учесть «сильное переполнение <...> лагеря», в котором «в настоящее время число заключенных 564 лиц», и «сделать распоряжение о совершенном приостановлении препровождения заключенных во вверенный мне лагерь». Распоряжение, возможно, было издано, и заключенных к концу ноября становится меньше. 15 числа их 530, 16-го — 470 и 17-го — 383, но к концу месяца их снова без малого 500: 482 человека 22 числа и 478 — 28-го. До января 1920 года в лагере бывало и более шестисот заключенных.
Представления о том, сколько заключенных можно «помещать» в лагере, часто менялись или были разными у разных администраторов.
В справке, составленной в августе 1919 года, после 18 числа, почти сразу после формального открытия, отмечено, что лагерь «на 500 чел». Отчет Угарова о ревизии, проведенной 22–23 сентября 1919 года, сообщает, что «рассчитан на 360 чел (300 мужчин и 60 женщин), но максимально уже вместил 620 (500 мужчин и 120 женщин)». Согласно этому докладу, напомним, в комнате (келье), могло помещаться «от 2 до 6, в среднем 4 человека». В позднейшей справке, от 12 октября 1921 года, указано, что «при открытии рассчитан на 250 чел». К сентябрю — октябрю 1920 года «штатных мест» в лагере 440. Позднейшая справка, от июня 1922 года, сообщает, что лагерь «рассчитан на 225 чел. До апреля 1921 штатное число равнялось 500».
Когда в 1925 году в монастыре находилось образцовое исправительное учреждение, подробнее о нем ниже, для заключенных были предназначены «кельи на 2 человека» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 100. Л. 7). В начале 1921 года заключенных в каждой из них было как минимум вдвое больше. Малиновский вспоминает: «Из карантина я попал в 3 коридор в камеру 37. Моими товарищами оказались три интеллигента и один пожилой казак-кубанец. Компания очень симпатичная». Когда в этих кельях жило 4-5 человек, они не считались переполненными. Весной 1921 года в Ивановский лагерь минимум дважды приходили инспекторы Красного Креста: в марте и апреле, но отчет о последнем посещении составлялся позже, поскольку в нем есть сведения и за май. В апреле 1921 года Красный Крест отмечает «светлые камеры в каждой из которых помещается 3-4-6 человек», но за месяц до этого заключенных было меньше и «в камерах сидят по 2, 3, 5 человек смотря по размеру камеры». Отчеты Красного Креста, из которых выбраны сведения этого времени, среди тягот лагеря тесноту не указывают (далее все сведения о лагере за март и апрель 1921 года, не отмеченные отдельно, выбраны из этих отчетов). Эти представления о том, сколько человек можно поместить в камеры, сохранялись. Так и в 1922 году «для карантинного помещения предоставлено 8 комнат во втором этаже главного корпуса с общей вместимостью до 30 человек»
В августе 1919 года в лагере находилось 313 человек. Приговоренных к заключению: «до конца войны 192, от 5 лет 113, без указанного срока 8 чел». Отдельно отмечено, что «стариков 57 чел». О количестве заключенных в 1920 году известно, что с 20 апреля 1920 года по 1 октября 1921 через лагерь «прошло 1355 чел». В январе 1921 года, по воспоминаниям Малиновского, «в лагере всех заключенных больше 300». В это время, когда лагерь не считался переполненным, в кельях жили впятером и вшестером. Весной 1921 года сначала заключенных становится меньше (12 марта — 188 человек: 169 мужчин и 19 женщин), а 12 апреля их уже 385.
К концу года заключенных снова стало значительно меньше: 12 октября 1921 года в лагере находилось 249 человек, а через месяц, 17 ноября, «числится 216 мужчин и 41 женщина. Состояние лагеря в смысле уплотняемости нормальное». В июне 1922 года лагерь «предназначен почти исключительно для заключенных мужчин. Женщин незначительное количество». Заключенных в нем в это время даже меньше чем 225 человек, на которых лагерь был рассчитан. 7 июня «заключенных в лагере 193, мужчин 170, женщин 23», а «на 24 июня 186 чел: 23 жен. 163 муж.». Чаще всего заключенных становилось меньше после освобождения или отправления в другие лагеря больших групп. В это время «при осмотре камер расположенных в корпусах по коридорной системе <…> скученность не наблюдается. В некоторых коридорах имеются свободные камеры». Заключенных вдвое меньше «штатного числа»: в июле 1922 года Ивановскому лагерю полагалось для них 400 пайков. (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 23; Д. 29. Л 45; Д. 69б. Л. 42; Д. 203 Л. 170, 193; Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 11. Л. Л. 178; Ф. Р8419.Оп. 1. Д. 88 Л. 1–2; Д. 95. Л. 1–2; Малиновский).

Большой Ивановский переулок (ул. Забелина) 1898 год. Фото: pastvu.com
Переведены — поступили
В 1919 году, когда ждали больших партий заложников, только из Новопесковского распределителя с 1 мая 1919 по 1 января 1920 года в Ивановский отправлено 312 человек (Ф. 4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 13.). В 1922 году заключенные «поступают небольшими группами по 5–10 человек из Новопесковского лагеря. Из остальных лагерей и арестных домов только единичные переводы заключенных. <…> в Новопесковском должны отбывать карантин, но <…> почти всегда наблюдается отклонение от этого правила. <…> Без карантина поступают из ардомов, МУУР, МОГПУ, ГПУ и др. лагерей в случае непосредственного перевода в Ивановский лагерь. <...> Ввиду наличия собственных сан учреждений и дезустановок <...> в исправности, изопропунктами железных дорог лагерь не пользовался. По прибытии заключенных они по наличию топлива пропускаются через баню, дезинфектор ГЕЛИОС <...затем> в карантин <...> при отсутствии топлива — поступают в карантин. <...> осматриваются врачом и лекпомом. Вновь прибывшие осматриваются поголовно» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42). Помимо нехватки дров в марте 1921 «заключенные сильно страдают от недостатка мыла. Баня есть, но мыло получать неоткуда». К апрелю положение немного облегчается: «баня в лагере есть недурная, бывает каждые две недели. Мыла дают мало и мыло от Красного Креста большое подспорье».
Расписание
Осенью 1919 года «жизнь лагеря установлена по следующему расписанию. Встают в 7 утра. Утренний чай от 7 1/2 до 8, отправка на работы в 8 ч. обед от 12 до 1 ч дня. Окончание работ в 5 часов вечера. Ужин и чай от 6 до 7, поверка в 7 вечера и в 10 часов по камерам. <...> Поверка происходит очередная ежедневно. Для поверки люди становятся в 4 ряда и считаются по счету без фамилий. Свидания по воскресеньям от 2 до 4 дня. <> во дворе лагеря. Двор окружается часовыми, и в него допускаются только те заключенные, к кому пришли родственники. Прием передач ежедневно от 8 до 10 утра» (доклад ревизора Угарова. Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б Л. 247).
Ко времени заключения Малиновского расписание таким и осталось. Второго января 1921 года он записывает: «Распределение дня таково: в 7 час. утра первый звонок — «Вставать!» После звонка приносят кипяток. В 8 часов второй звонок — «На работу!». После второго звонка, когда остальные заключенные разойдутся по мастерским, мы, находящиеся в карантине, имеем право выйти на утреннюю прогулку. Место прогулки — внутренний двор-сад. Здесь работают те, которые освобождены от работ в мастерских: убирают снег, колют, переносят и перевозят дрова. Мы имеем право гулять лишь по одной аллее для того, чтобы не смешиваться с остальными заключенными. В 11 ½ ч. звонок — обеденный перерыв работ. В 12 ч. снова звонок — обед. В половине второго возобновление работ. Нас снова выпускают на прогулку. В 6 часов — звонок об окончании работ. После звонка ужин, после ужина прогулки заключенных. В 8 ч. вечера звонок об окончании прогулки. Заключенные расходятся по камерам. В 11 ч. тушат свет».
В это время в мастерских работали в две смены. Ночная начиналась после ужина. 5 февраля у Малиновского:
«Ночные работы от 8 ч. веч. до 2 ч. ночи. Фальцую бумагу, сшиваю книги. Засыпаю в начале третьего, встаю в 7 ч. утра. До обеда гуляю и занимаюсь; после обеда сначала занимаюсь и гуляю; потом сплю; после ужина до поверки занимаюсь; после поверки гуляю и потом ухожу на работу. Ночные работы менее утомительны, чем дневные: 6 часов вместо 8 час.».
Через две недели, 22 февраля, «ночные работы, по распоряжению коменданта, отменены. Вероятно, это находится в связи с тем скандалом, какой случился вчера. В 3 часа ночи, после ночных работ, заведующий переплетной Зуев и завед. швейной Плинер были пойманы в женском отделении. Комендант посадил их в карцер. В тот же день распорядился прекратить ночные работы».
В октябре 1921 года ревизор коротко сообщает: «Распорядок дня обыкновенный. Обеденный перерыв на 1 ½ час поверка вечерами в 20 часов». Посетителей к заключенным пускали в это время довольно свободно и часто:
«Свидания по воскресеньям. В другие дни по усмотрению администрации» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203 Лл. 170, 193).
Усмотрение могло быть довольно широким. В 1920 году осведомитель докладывал в о свиданиях, но видимо частных, а не общих, даже после 10 вечера. Порядок сна и работы время от времени менялся. В октябре, как видно, пересчитывали заключенных на час позже. К лету 1922 года на час позже наступало обеденное время и проверяли заключенных дважды — перед завтраком и не после ужина, а перед сном. Авральные ночные работы не отменяли дневных: «В 7 часов встают, в 8 поверка, от 8 до 9 чай, с 9 до часу работают в мастерских, <...> с 1 до 2 перерыв на обед, с 2 до 6 вторичная работа, с 6 до 7 чай, с 7 до 9-10 отдых и прогулка по двору. С 9-10 вечерняя поверка заключенные ложатся спать. <...> В предпраздничные дни работа завершается на 2 часа раньше <...бывают> срочные сверхурочные работы <...> Работают по ночам без освобождения от работы на другой день. <...> За последнее время сверхурочные работы не наблюдаются. <...> В рабочее время хождение по двору строго воспрещается. По окончании работ вечером заключенным разрешается совместная прогулка на общем дворе лагеря под наблюдением администрации. Посещение женского двора мужчинами не разрешается» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42).
(Чиновники–градоначальники, финны–поляки, коммунисты и чекисты)
Монастырь, напомним, требовался Отделу принудительных работ «для <...> пленных особого назначения \заложников буржуазии\». Но к началу июля, когда лагерь начали устраивать, очевидно, решили, что отправлять в него будут не заложников, а не самых опасных заключенных. Границей, разделявшей их и опасных, служил приговор «5 лет заключения». По составленному к 8 июля 1919 года списку, «лагеря Новопесковский, Покровский, Ивановский предназначены для содержания лиц приговоренных не более чем на 5 лет». Вероятно, на перемену повлиял покровский комендант Семенов и его идея об объединении его лагеря с Ивановским. В Покровском же лагере и находились заключенные, считавшиеся не слишком опасными. Это распределение если и действовало, то меньше месяца, поскольку уже в справке от конца августа указано, что это «лагерь особого назначения для содержания лиц приговоренных до окончания войны и срочных от 5 лет и выше». Подробнее назначение изложено в реестре лагерей, составленном в сентябре 1919 года: «Ивановский для заключенных мужчин и женщин А) на все время гражданской войны. Б) на срок от 5 лет и выше, и только для женщин А) заложниц по 9-ой категории Б) иностранки» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 21. Лл. 8, 13). На 16 категорий разделял тех, кто подлежит заключению, приказ по Управлению лагерями принудительных работ от 17 октября 1919 года. По нему к девятой категории относятся «осужденные на срок от 1-го года до 5 лет за участие, соучастие или сочувствие контр-революционным и шпионским организациям». Таким образом, в Ивановский монастырь могли отправлять женщин осужденных и меньше чем на пять лет. Заложники в других категориях указаны прямо, но девятая категория заложников не включает. Можно предположить, что «заложницы по 9 категории» — это родственницы тех, кого сочли причастным или сочувствующим контрреволюции, но не нашли.
Перемена в планах отразилась в названии лагеря. При учреждении он назывался Ивановским лагерем принудительных работ, как и большинство лагерей, подчиненных Отделу принудительных работ. Уже в августе полный титул был: Ивановский концентрационный лагерь особого назначения.
Громоздкое для повседневного употребления название разделилось и распределилось частями по разным сферам. В большинстве документов, в том числе на бланках комендантов, там, где был важно назначение лагеря и тип заключенного, «концентрационный» опускалось и Ивановский стал лагерем особого назначения. Напротив, за пределами ведомства важнее было то, что лагерь концентрационный, поскольку указывало на то, что это место заключения (лагерь мог быть, например, и военным). О положении в «Ивановском концентрационном лагере» пишет Бонч-Бруевич. В программе исследования Малиновский отмечает «Местонахождение Ивановского конц. лагеря», а в дневнике записывает резолюцию собрания: «заключенные в Иванов. конц. лагере приветствуют постановления последнего съезда Советов». Другой заключенный подписывает письмо: «П. М. Ерогин. 1. 10. 22. Ивановский Концентрационный лагерь в Москве» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 56). Петр Михайлович Ерогин до 1917 года организовывал исправительные колонии. Его письмо, как и письмо Бонч-Бруевича и программа Малиновского, адресовано в учреждения и, очевидно, строго оформлялось, поэтому «особое назначение» не было опущено по небрежности. Все трое предпочли концентрационный особому назначению, потому что последнее было для них несущественно.
В анкетах Красного Креста осенью 1919 года, когда название еще не вошло в обиход, заключенный Чернышев писал, что он «содержится ныне в лагере Ивановского монастыря», а Шредер просто в «Ивановском монастыре» (Ф. Р8419. Оп. 1. Д. 270. Л. 121; Д. 273. Л. 74).
Заключенные в Ивановском лагере — заложники и осужденные до конца войны — были не преступниками, а врагами пролетарской революции. За войну с врагами отвечали особые отделы, и содержать врагов надлежало в лагерях «особого назначения». Еще одним лагерем с «особым назначением» в названии с октября 1921 года стал так же монастырский — Андроньевский. Распределение заключенных в зависимости от срока и причины заключения выдерживалось не строго, но в для Ивановского лагеря оно в 1919–1920 годах соблюдалось наиболее последовательно.
В вышедшем после открытия лагеря газетном обзоре разъясняется, какие это были заключенные: «В Ивановском лагере находятся действительно сливки контрреволюции. Если в упомянутых лагерях (Новоспасском, Покровском – ЕН) была контрреволюционная "шпана", то здесь мы имеем дело с крупными карасями. Тут и князья, и графы и высшее офицерство, бывшие царские чиновники и духовенство, буржуазия настоящая и примазавшиеся к ней интеллигенты, студенты, артисты и проч» («Московские контроционные лагеря». «Известия ВЦИК». 19.10.1919). Предшественниками заключенных особого назначения выглядят екатерининские узницы Ивановского монастыря Салтычиха и монахиня Досифея. Предположительно, автор обзора, подобно Гиляровскому на Хитровке, под видом заключенного провел несколько дней в лагере. Сохранился относящийся к середине октября 1919 года очерк Покровского лагеря, подписанный именем агентства — РОСТА и рукописной пометой «Линов». О публикации очерка сведениями не располагаем, возможно, он был написан для доклада или вместо запланированной серии репортажей опубликован один общий. Его автор — вероятно, Кельвин Линов — рассказывает, что собирал материал, получив «специальный ордер арестованного» (Очерк истории Покровского лагеря). Можно предположить, что часть собранного материала была опубликована в «Известиях» и что в Ивановском лагере репортер также был «заключенным». Опечатка в заголовке обзора («контроционные») показывает значимое смешение концентрационного с контрреволюционным, говоря одновременно и том, что это место заключения, и о том, что в нем держат контрреволюционеров, на революционном арго — контру. Газетное описание заключенных повторяет агентурная записка, которую через год, 29 сентября 1920 года, получило Осведомительное отделение Особого отдела ВЧК: «В канцелярии комендатуры Ивановского лагеря все бывшие чиновники, градоначальники, сенаторы и др. как только получают какие-нибудь секретные сведения, то они моментально становятся известны всему лагерю. Комендант допускает к некоторым заключенным на свидание в десять часов вечера и отпускает в город без особых надобностей. Своего поросенка кормит сухими овощами, предназначенными для заключенных» (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1. Л. 94).
Вероятно, в канцелярии работали отставные губернаторы Сергей Дмитриевич Горчаков и Сергей Дмитриевич Евреинов, а также отставной прокурор и сенатор Владимир Евстафьевич Корсак. Кроме них, известно, что в лагере находились два родственника отставных губернаторов: сын саратовского Аникита Ширинский-Шихматов и жена якутского вице-губернатора Зинаида Тизенгаузен. Крупными сановниками могли считаться вице-адмирал в отставке Угрюмов и генералы в отставке: инженер Федоров, заведующий царскосельскими стрельбищами Шевич и районный уполномоченный Вольф, а также действительный статский советник Курлов — родственник шефа жандармов. Осенью 1919 года в Ивановском лагере находились Тимирев — член трех государственных дум, «генерал на административных должностях» Бонч-Осмоловский и генерал артиллерист Тарачков. К тому времени, когда в лагере был корреспондент РОСТА, они, вероятно, погибли — были расстреляны в конце сентября 1919 года после взрыва в Леонтьевском переулке. Генерал Стогов сбежал из Ивановского лагеря в августе 1920-го. Одних сановников отправили в лагерь за прежнее положение: Горчакова формально «как занимавшего высокий пост», Бонч-Осмоловского арестовали «до выяснения». Художника Россоловского и актрису — сестру милосердия Итулину арестовали за агитацию против советской власти. Россоловского оставили в заложниках. Других брали в заложники в связи с их происхождением, а затем из-за происхождения приговаривали к заключению до конца гражданской войны. В заложники взяли Тимирева и Шевича. За прежнее общественное положение лишили свободы Евреинова, Корсака, Лашкарева, Сабурова, Угрюмова и Федорова. Вина не имевших высоких чинов и должностей Воейкова, Волконского, Голицыных, Новосильцевых, Остен-Сакена и Лорис-Меликова и Мещерской была, видимо, в звучном дворянстве фамилий. Писарев, преподававший в кадетском корпусе, вероятно, стал заложником за своих учеников, а земский деятель Линденер — за службу мировым судьей. За принадлежность к эксплуататорскому классу в заложники взяли банковского чиновника Булацеля и дочь генерала Мисси Адеркас. Из-за помещичьего происхождения стал заложником орловский инженер-механик Манцнев. Рязанского земского деятеля и члена государственной Думы 1907 года Селиванова заложником не объявляли, но кроме помещичьего прошлого его ничего не уличало. Как эксплуататора оставили в заключении до конца гражданской войны сына петербургского градоначальника правоведа Лауница. Военного моряка Тальберга заложником могла сделать и профессия, и фамилия. Граф Сечени был международным заложником, поскольку его взяли за арестованных в Венгрии коммунистов. Женщин брали в заложники за родственников: за братьев — Ксению Беннигсен, за мужа — Зинаиду Тизенгаузен. В заложники за Николая Терентьева взяли его жену и двух дочерей, а за Александра Никифорова — мать и четверых сестер. Вероятно, за родственников стала заложницей 70-летняя учительница Мария Андреевна Стецкая. После того как человека отправили в лагерь, формальная причина заключения теряла значение. Так, Евдокия Алексеевна Калабина писала в Красный Крест: «Я считаю слишком жестоко держать заложницей за мужа, который уже расстрелян». Мужчин — заложников за родственников было меньше. Бывшего чиновника Дросси взяли заложником за сыновей, братьев Александровских — за племянника. Заложниками становились и родственники заключенных. Так, после того как не нашли сбежавшую Денисову, арестовали ее мать (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 123–204).

Ивановский монастырь 1957 год. Фото: pastvu.com
Небольшой по сравнению с другими группе гражданских заключенных приписывали участие в борьбе с большевистской властью. Аникиту Ширинского-Шихматова, Георгия Семенова, Елену Соллогуб и Антуанетту Свет-Востокову арестовали за шпионаж. В нем, как и в содержании явочных квартир, чаще обвиняли женщин, и шпионаж было гораздо тягостнее почти дежурной «контрреволюции». С ним было труднее добиться послабления или сокращения наказания. Студента Кареева и податного инспектора Урусова и сестру милосердия Шауфус отправили в лагерь за причастность к заговору. В заключении оставались и родственники контрреволюционеров — вдова и дочери расстрелянного инженера Штейдингера.
Участие в заговоре предполагал офицерский чин. При этом среди заключенных офицеров были профессиональные военные: Баранов, Войнов, Тальберг, Тимашев, Тимофеев, Триницкий-Верин, Иванов, Кириллин, Корженевич, Куликовский, Кульгавов, Мануйлов, Меньшиков, Муромцев, Николаев, Павлищев, Прутковский-Прутков, Радзиванович-Пржебыльский, Редько, Романов, Сиверс, Тимофеев, Шершов.
За офицерскую службу в лагерь были отправлены и те, кого мобилизовали во время мировой войны: агрономы Арбузовы, коневоды Спечинские, студенты Калашников, Варфоломеев, Кудрявцев и Даневский; чиновники Гончаров и Новожилов, инженер Тавастшерна, присяжный поверенный Тихомиров, артист Емельянов. За службу в военном ведомстве в лагере находились: инженер Кулакова, чиновники Бурков, Кириченко и Роговский. Среди них идейным белогвардейцем выглядит молокозаводчик Голосов, которого мобилизовали сразу в армию Врангеля. (Собранные сведения о заключенных приведены в приложении.)
Попустительствовал сенаторам и градоначальникам в сентябре 1920 года двадцатипятилетний Федор Федорович Миронов, по одной анкете (1920 года) рабочий и член коммунистической партии, по другой (1923 год) — беспартийный крестьянин Тульской губернии, в мировую войну — в армии (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 117. не паг; Оп. 12. Д. 5. Л. 2). Готовность пойти навстречу была у него профессиональной. По лагерным разговорам, которые записал Малиновский, комендантом был «бывший половой из какой-то московской гостиницы».
В сентябре 1919 года в лагере было 49 человек, осужденных на 10–15 лет за «преступления по должности»: «растрату», «присвоение денег», «незаконный отпуск сахару» и пр. Среди них был осужденный на 6 лет лагеря за «замедление в передаче военной телеграммы».
Заключенных — «заложников буржуазии» в 1919 году привозили большими партиями. Так, в сентябре–октябре в лагере жила большая группа заложников из Курска и Воронежа, которые работали «на внешних работах» на заводе Гакенталя.
Позднее завод назывался арматурным и «Манометром», а сейчас — центр Артплей. Среди других заключенных в 1919 году из Воронежа привезли преподавателя Писарева, конторщицу Терентьеву с дочерьми и студентку медицинского института Воронцову, а из Курска — Линденера. Нескольких человек: Тизенгаузена, Мануйлова, Селиванова, Филиппова, Степанова и Тарачкова — привезли из Рязани. Троих последних — за участие в кассе взаимопомощи, которая и сделала их заговорщиками.
Помимо «чиновников-градоначальников» в лагере были заключенные, сочувствовавшие борьбе с царским правительством. Для автора обзора в «Известиях» и корреспондента ВЧК взгляды контрреволюционеров не существенны. Но к этому времени контрреволюционность объединяла людей с разными взглядами, включая и революционные: «Громадное большинство заключенных — контрреволюционеров, начиная от монархистов и кончая с-д меньшевиками». В это время лагере были правый националист Лошкарев, арестованные за оставленное членство в кадетской партии Депп, Порецкая и Христианович, а также меньшевик Никитин — министр почт и телеграфов во временном правительстве. Идейный диапазон заключенных в Ивановском лагере был еще шире, чем в описании Малиновского: за меньшевиками располагались анархисты. 30 октября комендант просит перевести в тюрьму прибывшего из Новопесковского лагеря анархиста Сергеева, который от работы отказался, а потом согласился, но приходил не в 8 часов, а в 11. На замечание ответил, что «для него времени не существует». Отправка же его в карцер спровоцировала протест других анархистов (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1 Л. 83). Свидетелем протеста анархистов оказался и Малиновский. В январе 1921 года он записывает, что его перевели из камеры, потому что «эта комнатка в тот же вечер понадобилась для помещения в ней объявившего голодовку анархиста». После 7 дней голодовки его увезли в ВЧК. Еще один, по записи Малиновского, анархист, студент Зуев, заведовал переплетной мастерской.
Среди прочего Ивановский лагерь предназначался для иностранцев. Несколько недель в Ивановском лагере находились подданные Финляндии. В августе 1919 года, после отступления финской армии с территории РСФСР, были собраны списки финляндских подданных в московских лагерях, а в сентябре их освободили (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 12. Л. 278 Л. 49). В сентябре 1919 года в лагере находился «итальянский гражданин» Севилино Батистович Пасквалини. МЧК его отпустила, президиум ВЦИК постановил содержать год, и начальник лагеря спрашивает, отпускать или нет (Ф.Р393. Оп. 89.Д. 32б. Л. 26). Комендант Кожуховского лагеря 15 декабря 1919 просит вернуть заключенного Иогана Калина, который подлежит отправлению в Ивановский концентрационный лагерь, но Калина уже отправили в Брестский госпиталь (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 96. Л. 4). Через год началась война с Польшей. Поскольку она считалась революционной помощью польским трудящимся, то нижние чины польской армии — трудящиеся, — хотя и находились в лагерях, с октября 1920 года формально считались не пленными, а дружинниками трудовых дружин. Классовой работе с военнопленными поляками мешало то, что «пленные были размещены вместе с контрреволюционными офицерами». Поэтому польских офицеров, которые так же, как и белогвардейские, были врагами революции, предполагалось отправлять в «лагеря особого назначения», в частности в Ивановский. Из Звенигородского лагеря, открытого «для военнопленных поляков», «два польских офицера были переведены в Ивановский особого назначения лагерь на основании телефонограммы от 17 июля 1920». Но офицерского звания не имевший польский военнопленный Соломон Бротман, двадцатилетний слесарь из Варшавы, в январе 1921 года тоже оказывается здесь. «Как польского заложника» арестовали Вольфа. Польские граждане Ивановского лагеря, в частности, перечислены в списках, составленных 28 октября 1921 года. На митингах утверждались клеймящие резолюции:
«Мы, заключенные, Ив лаг, <…> на красном фронте против панских ясновельможных банд Польши <…> Да здравствует Раб-Крест власть <…> Польская Советская Социалистическая республика», «Да здравствует братский союз польских русских и украинских рабочих и крестьян» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 91. Л. 389: Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 49; Оп. 8. Д. 131. Л. 11; Оп. 16. Д. 1. Лл. 21 об. 24, 27).
В 1920 году в лагере находились и латыши, а 29 сентября 1920 года информатор доносит, что «Таурин как латыш переведен в Андроньевский лагерь, но поддерживает связь с Ивановским лагерем». Там он будоражил умы провокативными суждениями: «Как только уедут из Москвы 15 батальонов красноармейцев направляемых на фронт и поляки подойдут близко войска московского сектора восстанут» (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1. Л. 68). Латыши были в лагере и позднее. В частности, об одном их них упоминает в дневнике Малиновский.
Весной 1921 года иностранцев в лагере оставалось «человек 15–20», в июне 1922 года — 30. В ноябре 1922 года в лагере содержались польские (67 чел.), эстонские (9 чел.), литовские, британские, сербские, греческие и венгерские подданные (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 39. Л. 550, 552, 553).
В начале 1921 года в борьбе за просвещение в лагере заключенные коммунисты настаивали на том, что они представляют пролетарское большинство. (Подробнее об этой коллизии — в главе «Кружок»). Революционная апелляция к интересам масс незаметно для коммунистов разоблачает устройство созданных для эксплуататоров лагерей, поскольку говорит о том, что в Ивановском лагере кроме карасей контрреволюции были и трудящиеся. Как много их было, не известно. В это время большинство пролетариат составлял в соседнем Покровском лагере. В Ивановском были и те, кто мог бы написать в графе «происхождение» — «рабоче-крестьянское», но пролетариата — заводских рабочих — среди лишенных свободы «не за преступления общего характера», тех, кому помогал Красный Крест, было немного. И сведениями о них не располагаем.
Осенью 1919 года здесь были крестьянки, в частности из Тамбовской губернии — такие же, как и их родовитые солагерницы, заложницы за братьев и мужей:
Ольга Фроловна и Анна Захаровна Бучневы (сведений, указывающих на их родство, нет), односельчанка последней Екатерина Трофимовна Ступина, Матрена Павловна Батищева, Анастасия Дмитриевна Баженова, Дарья Елисеевна Бастрыкина.
Причиной ареста крестьянки Аксинии Федосеевны Чернышевой стала «ссора из-за скотины с господином — комиссаром». Казачку Марию Леонидовну Дровалеву арестовали «за слова касающиеся дороговизны жизни» — агитацию против Советской власти. Марию Ефимовну Ботину отправили в заключение из-за того, что ее мужа избрали царскосельским волостным старостой.
Мужчины — крестьяне, чаще всего вернувшиеся солдаты мировой войны: Дмитрий Алексеевич Баронин (подозрение «в содействии зеленым бандам, но без прямого выступления против советской власти»), Александр Егорович Котлярович («сносился с казаками»), Самуил Карлович Парц, Михаил Аркадьевич Скрабовский (оба были арестованы во время переезда, другие причины не известны). Не были солдатами 18-летний крестьянин Иван Николаевич Лошицкий (арестовали все село, 187 человек — «укрывали бандитов») и 47-летний воронежский ломовой извозчик Иван Иванович Николаев (причина не известна). Были в лагере и представители городского рабочего класса: машинист Александр Игнатьевич Батарин вместе женой и тремя сыновьями (заложники за четвертого брата) и часовщики Велько Пейсохович и Вульф Лейвикович Ливщицы (причислены к Буржуазии и взяты в заложники).
Из 188 человек, остававшихся в марте 1921 года ( «состав заключенных смешанный. есть и уголовные и политические»), Красный Крест «обслуживал» 107 человек (99 мужчин и 8 женщин). Характер обслуживания, дублирующий официальный, вводил заключенных в заблуждение; в апреле 1921 года врач Красного Креста отмечает: «Среди некоторых заключенных было представление о Красном Кресте, как об организации правительственной, но осведомленные о Красном Кресте объяснили им истинный характер Красного Креста». Также в лагере были «политические обслуживаемые другими политическими красными крестами <...> человек 15–20» — скорее всего иностранцы. Значительная их часть была виновна по рождению или занятию. В это время «среди заключенных преобладает элемент офицерства осужденного за службу у белых», но политическими так же считались, например, тамбовские крестьянки — заложницы. Через месяц, когда заключенных стало больше, доля политических среди них — меньше: «на 12 апреля в лагере было всего 385 чел., из них политических 190 /на 14 мая политических 165/». Апрельский отчет подробно излагает собранные сведения о политических заключенных. Происхождение заключенных Красный Крест не интересовало, но рабочих среди них нет: «мужчин 155 женщин 22. Из 155 мужчин давших сведения крестьян 32, бывших кадровых офицеров и низших чинов армии 28, кроме того офицеров военного времени 8, мелких служащих в различных учреждениях гражданских и в кооперации 22, военной полиции и жандармерии 4, прокурорского надзора 2, учащихся 7, не указано занятий 8, иностранных подданных 3, военнопленных 2, казаков 2, священник 1, моряков 2. Из 22 женщин — сестер милосердия 5, занимавшихся домашним хозяйством 11, учащихся 1, хористок 1, артисток 1.
Огромное большинство числится за В.Ч.К и за О.О. В.Ч.К. 80, за различными трибуналами 64, за МЧК 13, за различными Губ Ч.К. 11, за жел дор трибуналами 2, неизвестно 6.
Обвинения крайне разнообразны: агитация, служба в различных армиях, преимущественно южных, переход границы, контрреволюция, участие в заговоре, шпионаж, религиозные убеждения, уничтожение советской литературы, оскорбление комиссаров, укрывательство сына-дезертира и т. п. некоторые сидят как заложники, как военнопленные.
Большинство осуждено до конца гражданской войны, есть пожизненно, на 15–20 л; к огромному большинству применена амнистия 7. 11 <1920>, сроки сокращены до 5, до 3 лет и даже 2 лет, 8 человек осуждены до конца польской войны и список последних передан в Юридическую комиссию с просьбой выяснить не могут ли они быть уже сейчас освобождены немедленно и автоматически. Амнистия не применена к 65 заключенным. возраст заключенных 26–30 лет — 36, свыше 40 — 30, от 31 до 40 – 27, от 18 до 25 – 29, 60 лет и выше — 4».
*Для этого описания использовались анкеты, и их число не совпадает с указанным в этом же отчете в другом месте количеством политических заключенных. Возможно, на это указывает пояснение «давших сведения»: были заключенные, которые считались политическими, но анкет не заполняли или заполняли их не полностью.

«Особое назначение» лагеря в 1921–1922 годах как отменялось, так и возобновлялось. В апреле 1921 года инспектор Красного Креста записывает, что «Специального <так, не > назначения лагерь не имеет». А в конце июня заключенный упоминает в письме коменданту телефонограмму «Главного управления о предполагаемом снятии особого назначения с лагеря» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 24). В конце июня 1922 года лагерь «предназначен почти исключительно для политических заключенных, присужденных к отбытию долгосрочного наказания». Седьмого июля 1922 года был издан «приказ о переводе из Семеновского в Ивановский всех заключенных со сроками свыше 3 лет за к-р, шпионаж и т. п» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 14. Л. 73; Оп. 4. Д. 193. Л. 8). Кроме того, в 1922 году Ивановский по-прежнему «является сборным лагерем, для всех политических заключенных, которые сюда направляются из всех остальных лагерей Республики» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42). При этом в Ивановском, как и во всех других лагерях за исключением Владыкинского, находились заключенные всех категорий. Владыкинский же был предназначен в это время «для заключенных до 5-летнего срока» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 11. Л. 196).
Содержатся чисто
Бытовые привычки заключенных «особого назначения» поддерживали в Ивановском отличный от других московских лагерей порядок. Среди прочего, ревизор Угаров 23 сентября 1919 года докладывает о том, что «санитарное состояние лагеря очень хорошее. Двор, камеры, кухня и уборная содержатся чисто. Уборная кроме того дезинфицируется» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 247). Через месяц доклад Угарова подтверждает обстоятельный заведующий санитарной частью концентрационных лагерей: «23 октября 1919 года мною был посещен в очередном порядке Ивановский концентрационный лагерь, причем оказалось, что названный лагерь в настоящее время переполнен заключенными сверх нормы (помещено в нем 593 человека). Если принять во внимание отсутствие в некоторых камерах матрацев (матрасники есть — соломы нет), кроватей, нерегулярность отправки заключенных в баню происходящую по словам коменданта из-за дороговизны (12 000 рублей стоимость бани в месяц) и отсутствие сопровождающего конвоя, то подобная скученность чревата последствиями, тем паче, что уже случаи сыпного тифа в названном лагере были.
В камерах чисто-чисто и лишь в некоторых из них по недосмотру администрации, происходит сушка белья заключенными. Кроме того, устройство в жилом помещении сапожной мастерской противоречит изданной инструкции, об уничтожении чего вам надлежит указать заведующему Отделом принудительных работ в самой категорической форме.
Ранее указанная мною недостаточность умывальных кранов unitas'ов и по сейчас в стационарном положении. Нужно же двинуть когда-нибудь это дело вперед.
Прекрасное помещение карцера совершенно необорудовано: нет ни кроватей, ни столов, ни табуретов, ни предметов личной гигиены. В лагере недостаток белья, теплой одежды и обуви. Пища удовлетворительна. Полевая кухня требует посуды. Прачешная действует. Баня бездействует из-за отсутствия дров: приемный покой по последней же причине являет собой холодный сырой, а посему недопустимый вид» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 80). В том, что сколько было возможно чистоту поддерживали, видно участие бывшего деятельного гласного Петроградской думы, кадета-обновленца Николая Петровича Зеленко (В. А. Иванов. Пленник гражданской войны (штрихи к портрету лидера «обновленцев» Николая Петровича Зеленко) // Из глубины времен: альманах. Вып. 9. СПб., 1997. С. 114–119).
Холодно
Администрацию обвиняли в манипуляциях топливом, нехватку которого отмечал ревизор. Вызванную донесением проверку весной 1921 года отмечает Малиновский: «2 марта. Внезапно явилась комиссия МЧК во главе с какой-то девицей-чекисткой (вероятно, Анна Ивановна Снопикова — ревизор и деятельная сторонница благоустройства лагерей — ЕН). Опечатаны канцелярия коменданта, мастерские, склады с провиантом, обмундированием. Производится ревизия. Говорят, был донос, сделанный заключенными-чекистами, о том, что в лагере производятся хищения, выполняются частные заказы и т. п. <...> Говорят, что одним из самых серьезных пунктов обвинения — злоупотребления с дровами: в отчете показано гораздо больше, чем в действительности выдавалось». Для отопления в лагере было «голландских печей штук 8–10». А за год до этого, в декабре 1919 года, Павел Урусов пишет в Красный Крест: «Убедительно просил бы дать теплый костюм, теплую верхнюю фуфайку и теплое пальто, калоши, ботики или валенки (№ 10, 11, 12). Я высокого роста, и все, что пришлете, буду глубоко благодарен. Продлите жизнь, уже третий раз ложусь в околодок» («Заклейменные властью»). В марте 1921 года в лагере «сильная нужда в белье и обуви. Есть совершенно раздетые, есть заключенные имеющие только казенное и в случае освобождения остаются почти в тряпье». По отсутствию замечаний Малиновского можно предположить, что в январе – феврале 1921 года очень холодно заключенным не было.
Что подтверждает и Красный Крест в марте 1921 года: «Санитарное состояние лагеря удовлетворительное. Холодно в некоторых коридорах, камеры самими заключенными отапливаются, в плохом состоянии женский корпус, там сыро и холодно» — и в апреле: «Часть коридоров светлых часть темноватых, помещение сравнительно теплое и не сырое, но правда осмотр произведенный весной производит всегда лучшее впечатление, чем зимой, когда меньше свежего воздуха и в помещениях холодно, но дрова выдавались и эту зиму камеры топились». Но дрова на то, без чего можно обойтись, не расходовали, поэтому зимой 1920–1921 года «школьные занятия зимой прекратились, так как школьные помещения не отапливались. <...> Лекции в этом году мало читаются зимой зал мало отапливался».
Ревизор управления через несколько месяцев, с началом новых холодов, записал, что 17 ноября 1921 года в комнатах «температура в среднем 14–15 градусов тепла» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 193). Этой зимой для отопления разбирали монастырские постройки. Летом наступившего 1922 года «срочно ремонта требует чердак мужского корпуса. <...> в период зимнего времени 1921–22 ввиду недостатка дров производилась разборка деревянных частей чердачного помещения. Кроме того, необходимо произвести в надлежащий вид полуразрушенный подвал хозяйственно административного корпуса, деревянные части которого так же были употреблены на топливо». К лету 1922 года «для учета дров ведется книга», в которой отмечено, среди прочего, сколько «куплено у частного лица».
Осенью 1922 года коменданты, в том числе и ивановский, должны были «в целях сокращения расхода топлива <….> немедленно приступить совместно с врачами лагерей к максимальному уплотнению заключенных и сокращению площади жилых помещений оставшиеся помещения оставить свободными забить и изолировать от жилых» (Ф. 4042. Оп. 8. Д. 48 Л. 134).
Несмотря на дефицит белья и редкую баню занятые заключенными «особого назначения» кельи отличались благоустроенностью, контрастировавшей с бытом охраны. Санитарный ревизор в том же октябрьском 1919 года отчете отмечает, что «если в камерах заключенных имеется необходимая оборудованность и чистота, то караульное помещение являет собой нечто выдающееся по своей грязи, холоду и отсутствию какого-либо оборудования. Караул в 38 человек помещается посменно на сплошных нарах без матрацев, кои служат как для спанья, сиденья, так для приема пищи <...> Везде сплошная грязь и отсутствие какого либо надзора за житьем бытьем караульной команды» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 80).
Контрреволюционеры-революционеры могли просить содействия в правительстве у недавних соратников — большевиков. Среди прочих, ходатайства получал Владимир Бонч-Бруевич, который в свою очередь 27 декабря 1919 года писал в Бюро по разгрузке концентрационных лагерей товарищу Медведю: «Ко мне поступают устные жалобы на положение заключенных заложников в Ивановском концентрационном лагере (Ивановский монастырь. Солянка). Мне сообщают, что для многих заключенных там нет ни коек ни чего другого, на чем можно было бы спать. В женских камерах для 30 женщин так же нет коек и, когда эти заключенные обращаются к коменданту с просьбой улучшить их положение, а я думаю, даже стыдно, что такие просьбы имеются, так как комендант по закону обязан смотреть за положением заключенных и это положение должно соответствовать принципам трудовой советской республики, то комендант вместо того, чтобы выслушать эти заявления и принять меры улучшения положения заключенных, заявляет, что «он натычит морду», и если ему решаются заявить, что такое отвратительное отношение совершенно недопустимо в Советской Республике и что оно напоминает худшие времена старого царского режима, то этот Держиморда заявляет, что он сейчас же отколотит щетками, кирпичом и чем попало человека который жалуется. Совершенно необходимо немедленно завести следствие по этому делу и этого коменданта ввести в законные рамки и подвергнуть дисциплинарному взысканию, так как это абсолютно нетерпимо, чтобы в Советской России возрождались бы нравы времен Николая 1-го. Эти жалобы неоднократные и я решил писать вам только тогда, когда эти жалобы стали постоянные, поступать со всех сторон в достаточном изобилии. Что же касается той грязи, которая царствует в лагерях, я уже писал Вам и повторяю еще раз, ввиду все более усиливающейся эпидемии сыпного тифа необходимо в самом экстренном порядке принять меры к улучшению положения заключенных. О всем том, что Вы найдете лучшим предпринять для обревизования и устройства сносных условий для жизни заключенных, прошу вас сообщить немедленно мне в Управление делами Совнаркома для экстренного доклада Председателю Совнаркома В. И. Ленину, который крайне возмущается таким положением заключенных в концентрационных лагерях и тюрьмах. Управляющий делами Совета народный комиссаров Влад. Бонч-Бруевич». (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 282).
Матрос Найчук
Царистским Держимордой в письме назван двадцативосьмилетний коммунист Федор Давыдович Найчук, предположительно, бывший матрос с крейсера «Аврора». В марте 1918 года «вахтенный Федор Найчук совершил недопустимую халатность, упустив человека, принесшего "адскую машину" на крейсер» (Демин Л. А. На «Авроре» в октябрьские дни. Воспоминания // Центральный военно-морской музей. Записки музея. Л., 1958. С. 31; см. Холодняк Ал. Аврора. Л., 1925. С. 117–118). Заведовать лагерем он прибыл в сентябре 1919 года из Подольской ГубЧК и сначала числился в Покровском лагере. В Ивановском он сменил едва появившегося Квятковского. Предположение о службе на «Авроре» подтверждает поэтический шарж: «А двумя ступенями ниже / Комендант — матрос Найчук / Весь вниманье — (подметки лижет) / Начальству полон услуг» (Иванов В. Концы и начала: Попытка эпоса. Париж, 1930. С. 15). Не сладив с охраной лагеря (заключенные жаловались только на угрозы), Найчук в октябре 1919 года жалуется сам: «часовой, остановил меня и зная меня хорошо в лицо, как коменданта, несмотря на мое предупреждение о том, что я являюсь комендантом лагеря, не пропустил меня» в лагерь, а на увещевания стал «осыпать матерной бранью». Часовые «покидая свои посты <...> удаляются в помещения заключенных и там проводят время <...> ведут картежную игру <...> свое караульное помещение держат в крайне неопрятном виде. Замечания и указания на такие нарушения <...> не только не проявляют никакого исправления, но в грубых выражениях мне отвечают, что это не мое дело и что они не являются подчиненными мне лицами» (Ф 393. Оп. 89. Д. 11. Л. 16).
Через полгода после письма Бонч-Бруевича, ссылаясь на то, что совершенно расстроил «и без того подорванное здоровье», Найчук выхлопотал себе переезд «в наиболее благоприятный для моего здоровья климат». В мае 1920 года его перевели «в Оренбургский губернский лагерь — Илецкая-Защита» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 21. Л. 5; Д. 117 не пагинировано; Д. 118. Л. 20;). Следующим комендантом стал заведовавший при Найчуке хозяйством благодушный Миронов, которого разоблачал осведомитель. К 1923 году Миронов стал директором Ордынской колонии (бывшего лагеря). Заключенные в ней женщины также рассказывали о том, что порядок при нем был не строгий (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 13. Л. 65).
Не позднее 12 октября 1920 года комендантом снова стал Квятковский. Ревизор в этот день отдельно отмечает: «обращение администрации с заключенными дружеское. <...> Случаев дисциплинарных взысканий в последнее время не имеется. Карцер не применяется» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 170). Наказание (очевидно, все же применявшееся) и его место тем не менее в особом лагере к весне 1921 года выглядели гораздо менее страшно, чем его название, даже в отчете Красного креста, который не ограничивали административные соображения: «В случае дисциплинарных взысканий заключенные отправляются в карцер. Собственно это лишь изоляция, карцер светлый и пища заключенных в карцере обычная».
Фунты, золотники и передачи
В начале марта 1921 года, на следующий день после разоблачения, сделанного комиссией, которую описывает Малиновский, Квятковского сменил Иван Егорович Мартынов, заслуживший сухую, но доброжелательную характеристику Красного Креста: «Комендант лагеря Мартынов только что назначен 5. 3. первое впечатление оставляет хорошее. Были введены некоторые новые порядки, но жизнь лагеря идет по прежнему. Сменили и помощника. Назначен Пантелеев, человек энергичный. Новая администрация обратила внимание на улучшение довольствия заключенных, заботится о лучшей постановке лагерного кооператива и т. д.». Через месяц глухо указывая на прежний конфликт с дружеским Квятковским, инспектор Красного Креста уточняет, что «сейчас отношения между администрацией и заключенными корректные, взаимных неудовольствий нет».
Ревизия летом 1922 года отмечает прежнюю аккуратность и бытовую скудность: «Жилые помещения содержатся удовлетворительно. За исключением уборных, которые требуют капитального ремонта. Нежилые помещения мастерские также в удовлетворительном состоянии <...> Все помещения лагеря (камеры) оборудованы в соответствии со своим назначением деревянными койками (топчаны), столиками, <...> табуретки имеются в крайне незначительном количестве. <…> матрацы (тюфяки) набитые соломой или бумажными обрезками <из типографии? – ЕН> очень слабо, частично совершенно без набивки, имеются у всех заключенных. Подушки и наволочки, простыни и одеяла имеются только у незначительного количества, у остальных частью свои, а частью совершенно не имеется» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42; Ф. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 13248. Л. 184).
В 1919 году обзор в «Известиях» отмечал благополучие заключенных: «Положение их не только не хуже, но и, пожалуй, лучше, чем где бы то ни было. Заключенные сами заявляют, что абсолютно не чувствуют себя как в тюрьме, а скорее как закрытом каком-то пансионе. Пища и в количестве достаточна, и во вкусовом отношении хороша (говорил князь!). Обращение администрации не оставляет желать лучшего. Конечно, публика здесь изнеженная, требовательная, и потому мы можем слышать, например, жалобы на большое количество мух, нужду во врачах специалистах и. т. п. <...> Это действительно пансион, а не тюрьма, особенно если принять во внимание, что многие из заключенных получают 3 раза в неделю «передачи», в которых и мясо, и масло, и шоколад, и пирожные, и такие деликатесы, которые как говорит лагерная администрация, она сама редко когда едала» (Известия ВЦИК. 19.10.1919). Известинская идиллия контрастирует с описанием голода в других лагерях. Формально устройство питания для заключенных осенью 1919 года выглядело так: «Прием передач ежедневно от 8 до 10 утра. <...> Продукты лагерь получает из Центропленбежа, никакой расплаты за полученное еще не велось. Продукты получаются по раскладке Центропленбежа. Продовольствие на человека стоит около 5 руб. Паек заключенного работающего и неработающего одинаков. Расходы по лагерю от 13 августа по 23 сентября выразились в 246 698 руб. 50 копеек» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б Л. 247).
В июле 1920 года врач Красного Креста пишет, что «раскладка не соответствующая по количеству калорий даже голодному пайку не соблюдается ни в одном из лагерей». Отчетов об Ивановском лагере в этом время нет, но в сентябре 1920 года тем заключенным, у кого не было в Москве знакомых и родственников, угрожала голодная смерть. Ипполит Булацель, которого привезли из Киева, сообщает это время в Красный Крест: «У меня болезнь почек и ревматизм на подагрической почве в связи с полным истощением вследствие недостаточного питания» («Заклейменные властью»).
Через несколько месяцев изобилие стола подробно описывает Малиновский: «1 января 1921 года. На обед приносили суп с перловой крупой (иногда кроме того с мясом или рыбой) или с капустой. <...> Порции порядочные: большая тарелка. А так как все принесенное поступало в полное распоряжение заключенных, а выдавали больше, чем следовало по порциям, то желающие, съев свою порцию, получали прибавку. Около 3 час. дня — кипяток. Около 6 ч. вечера — ужин. (то же, что и на обед). Около 8 ч. — кипяток. В общем кормили сытно. Многие, кроме того, получали передачу. Мне Женя (дочь – ЕН) приносила роскошную передачу: пирожки, вареные овощи, хлеб, печеный картофель, рисовую кашу, кофе. <...> 2 января. Кормят довольно сытно. Три раза кипяток: утром, после обеда и после ужина. Обед и ужин: дают похлебку с кашей, картофелем, иногда с мясом или рыбой; дают по 1 фунту хлеба (работающим в мастерских по 1 ¼ ф — 1 ½ ф.) по 6 золот<иков>. сахару и по кусочку коровьего масла. Передача 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. По воскресеньям — свиданье, когда тоже можно приносить передачу. Мне Женя уже принесла великолепную передачу: пирожки, пирог с рисом, вареное мясо, вареные овощи, печеный картофель, рисовую кашу, кашу из перловой крупы, чай, соль».
Вероятно, в начале 1921 года стало менее голодно: «За самое последнее время скудный рацион несколько повышен особенно для больных (питание в околодке лучше обычного. Заключенные там получают санаторный и лагерный паек. Хлеба 1 ½ Ф, мясо, жиров, правда всего понемногу). Общее питание заключенных скудное на 12. 03.<1921> крупы 16 зол. на человека, голья рыбы или сельдей 12 зол. Соли 4/8* <зол.>, картофель 1 ф. Жиров 0.53 зол. Сахар 0.8 зол. Хлеба 3/4 ф. и 1/4 ф за работу. На кухне дежурный от заключенных наблюдает за приготовлением пищи». Через месяц, в апреле 1921 года, работающим заключенным полагалось на 100 граммов хлеба больше: «Питание заключенных недостаточное: ежедневно выдается 3/4 ф. хлеба и 1/2 ф. за принудительные работы, мяса 24 зол. крупы 25,5 зол, жиров 2,45 зол. овощей 19,5 зол, картофель 9,6 зол. сахару — 3,2 зол, соли 3-2, кофе 1,2. На распределение и утечку продуктов не жалуются. Есть дежурные по коридорам (представители заключенных от каждого коридора – ЕН) на кухне».
* фунт 400 г, в столовой ложке помещается 6 золотников, соли в других документах полагалось от 2 до 5 золотников. Возможно, в данном случае 4/8 вместо очевидной ½ это опечатка и имелось в виду 4–8, от 4 до 8 золотников.
Помимо частных передач заключенные время от времени получали помощь из Политического Красного Креста. 4 марта Малиновский записывает, что от Красного Креста «давно не было передачи. Одни говорят, что весь Кр. Кр. арестован; другие — что арестованы некоторые его члены». Общее беспокойство заключенных сохранил и отчет общества, представитель которого приходил в лагерь через полторы недели после сделанной Малиновским записи: «Как ни скудны передачи Красного Креста, но ими страшно дорожат, так как питание очень плохое, и передачи с воли имеют далеко не все. Если придется прекратить передачи Креста для заключенных будет большое лишение». Сам Малиновский относился к наиболее благополучной трети заключенных: «Передачи родственников бывают три раза в неделю и являются значительным подспорьем. для тех, кто их имеет, но таковых немного — 30–35%. Очень многие не имеют ни родных ни знакомых в Москве. Отношение к Красному Кресту хорошее, но передачи не удовлетворяют, слишком незначительны, высказывается пожелание об их увеличении».
После объявления НЭПа в лагере сохранялась инерция военного коммунизма. Заключенным полагалось столько же еды, сколько и тем, кто за ними следил. Ревизия в октябре 1921 года отмечает не только, что «питание в качественном отношение хорошее, в количестве по норме МПК <Московская продовольственная комиссия>», но и что охрана и администрация «продовольствие получают наравне с заключенными. <…> работающие получают добавочный хлебный паек 72 зол < ~ 270 г> в день» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 170). К середине 1922 года продукты продолжали распределять, и их нехватку ревизия не отмечает: «Кухня — удовлетворительно. Кладовые и ледник, а так же сами продукты в удовлетворительном состоянии. Норма питания установленная МПО <Московское потребительское общество>. <...> Продукты для служащих лагерь получает из МПО бесплатно, удержание за паек сотрудников производилось за апрель мес. Мосуправлением при отпуске жалования»(Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42).
Старостат
«Изнеженные» заключенные рассчитывали на уважительное участие администрации лагеря. Малиновский сетует на недостаточную расторопность бывшего полового: «Подал через коридорного старосту новое заявление на имя коменданта. <...> Если бы комендант был более интеллигентным человеком, он принял бы более решительные меры: сам бы заехал в комендатуру или отправил бы надзирателя или переговорил бы по телефону». Такой расчет не был вызван только самонадеянностью мало видевшего арестанта. В московских тюрьмах оставались старорежимные Держиморды, которые часто старались в меру сил содействовать заключенным, особенно политическим. Подобные эпизоды отмечены, в частности, в Новинской и Таганских тюрьмах. Позднее, когда администрация сменилась, новым начальникам также ставили на вид то, что они благожелательны к политическим заключенным (Натаров. Е. Новинская женская тюрьма. https://topos.memo.ru/article/475+82)
Отправляли в лагерь и чекистов, которые, как видно из приведенной выше корреспонденции, продолжали работать. С весны 1921 года в лагере было как минимум трое бывших сотрудников ЧК: Николаев, Новокшонов и Шумский. Коммунисты в лагере так же ощущали себя не вполне или не только заключенными. Для них здесь продолжалась борьба пролетариата с эксплуататорами. Малиновский описывает собрание, на котором «лагерный староста (коммунист, по-видимому, латыш; назначен комендантом) предложил резолюцию: заключенные в Иванов. конц. лагере приветствуют постановления последнего съезда Советов, «Да здравствует пролетариат!», «Да здравствует мировая революция!» <...> Конечно, подняли руки все, даже и те, которые совсем не желают мировой революции».
Сразу после организации «пансиона» было заведено «получение пищи, чая и обеда установленными старостами» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б Л. 247). Представительные органы заключенных, которые среди прочего следили за тем, что кладут в котлы на кухне, просуществовали как минимум до весны 1921 года. «Заключенные организованы по коридорам, каждый коридор избирает своего старосту для сношения с администрацией и для забот о нуждах заключенных. Кроме того, политические также организованы по коридорам, имеют своих старост, все коридорные старосты политических объединяются в старостат <из 7 старост> имеющий свой президиум: председателя и секретаря, свои заседания, ведутся протоколы этих заседаний. Организация — старостат обслуживает исключительно нужды политических заключенных сносится с политическим Красным Крестом и распределяет передачи последнего между политическими заключенными». При этом общий, не политический староста, как замечает выше Малиновский, не избирался, а назначался администрацией. Избранный же политический староста Николаев был в это время пойман на том, что, как записывает Малиновский, «грел руки около передач: удержал 10 фунтов рыбьего жира, около 15 фунтов сливочного масла». К марту (после скандала?) «корпусным» старостой становится известный честностью Зеленко (Иванов В. А.). Был ли он политическим или общим старостой, не известно.

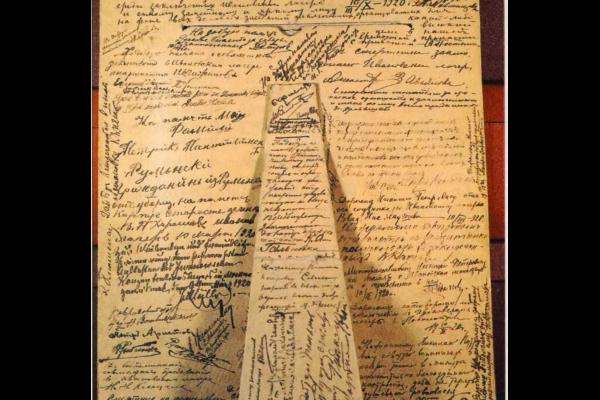
К октябрю 1921 года и до весны 1922 года политическим старостой третьего коридора был Яковлев-Савельев. В декабре он просит снабдить его «сапогами или ботинками». Объясняя, что отправленную ему до этого обувь он отдал другому заключенному, укорившего старосту в том, что он получает ботинки первым. Весной замерзающий Савельев просит «не отказать <...> в выдаче шаровар».
С учреждением женского корпуса в нем избиралась или назначалась особая староста. В конце 1921 года переписку с Красным Крестом вела «политическая староста женского корпуса Ивановского лагеря О. Кривошеина». В ноябре Ольга Васильевна (заложница за брата Александра, главы правительства Врангеля, к этому времени уже скончавшегося во Франции) отправляла «23 опросных листа политических женщин Тамбовской губернии заложниц переведенных в Ивановский лагерь из Завода Гаша в Лианозове, где они работали и никакой помощи от красного креста не получали» (Ф. 8419. Оп. 1. Д. 197. Л. 122). Летом 1922 года политической старостой всего Ивановского лагеря была Екатерина Петровна Соловьева-Даненберг (Ф. Р8419. Оп. 1. Д. 88. Л. 2).
Границы заключения
В организации богослужений администрация не отчитывалась, но им не мешала. Красный Крест, которого интересовали все нужды заключенных, сообщает, что «церковь закрыта и служба бывает лишь в большие праздники. Один заключенный — священник — иногда служит в своей камере, и туда приходят желающие молиться». В 1919 году в лагере был священник из Курской губернии Петр Владимирович Арбузов, но в описании весны 1921 года о своем сане сообщил только один заключенный. Возможно, это Константин Иванович Покровский, который к началу 1921 года находился в Ивановском лагере.
Отправка в отличающийся чистотой и порядками лагерь «особого назначения» уже выглядела привилегией. В дневнике 5 февраля 1921 года Малиновский записывает, что, когда он обессилел от ночных смен, доктор предложил записать его в категорию «нездоровые». Это освобождало от работы, но одновременно могло стать причиной перевода в другой лагерь. Малиновский решил не провоцировать переезд, ведь «говорят, что Ивановский лагерь — самый лучший». Еще раз Малиновский отмечает это обстоятельство 1 марта 1921 года. В это время заключенные обсуждали, кого могут отправить из лагеря, одна из версий состояла в том, что «будут отправлены все, не угодившие коменданту: Ивановский лагерь самый благоустроенный, и с этой точки зрения перевод из него означает как бы дисциплинарную кару; но, с другой стороны, заключенные в Ивановский лагерь, по общему правилу, не могут отлучаться в город, из других же лагерей такие случаи допустимы» (Архив «Мемориала». Ф. 2. Оп. 8. Д. 97). Официально заключенного Ивановского лагеря разрешалось наказывать только отправкой в другой лагерь. 25 февраля 1920 года Отдел принудительных работ НКВД сообщает комендантам, что «Ивановский, Андроньевский лагеря не являются местами заключения в них лиц, в отношении которых должны быть приняты какие-либо репрессивные меры, а потому в случаях попыток к побегу или уходу самовольному с работ виновные в этом заключенные лагерей могут быть переводимы в один из подведомственных Управлению лагерей, а в исключительных случаях и в тюрьмы» (Ф. 4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 20). Отчасти этой интенцией объясняется и благоустроенность все же существовавшего в 1920–1921 годах в Ивановском лагере карцера, и то, что часто он «не применяется». Запрет же на выход из лагеря, как писали «Известия», был введен не сразу, а через полтора месяца после получения лагерем особого назначения: «Единственное отличие здешнего режима в сравнении с режимом других лагерей — это запрещение свиданий с родными и отпусков в город. Но и это усиление режима имеет место всего 3 недели и было произведено после белогвардейского покушения в Леонтьевском переулке (25 сентября 1919 года — ЕН). Понятно, что с этим связано большинство жалоб заключенных. <...>Вот уж месяц как их не пускают на работу вне стен лагеря, и они скучают по ней: то было развлечение (!) и заработок, а теперь лишились этого» (Известия ВЦИК. 19.10.1919). Свидания если и были запрещены, то, как видно из приведенных выше документов, недолго. Запрет на выход в город соблюдался нестрого и по-домашнему, без бюрократии время от времени нарушался. Корреспондент ВЧК, напомним, указывал в 1920 году на то, что комендант заключенных «отпускает в город без особых надобностей». Можно предположить, что строже всего запрет соблюдался после ревизий. В 1921 году Малиновский записывает, что Зуев «заведующий мастерской пользуется некоторыми привилегиями: иногда уходит домой без стражи». Отступление от запрета на отпуска имело ту же природу, что и отступления от принципов распределения заключенных по лагерям. Строгость директив подрывалась хозяйственными нуждами администрации, которой заключенные требовались для работы. Поэтому в лагерь отправляли не только контрреволюционеров «особого назначения», но и заключенных специалистов рабочего назначения, которые и могли в первую очередь рассчитывать на послабления. Летом 1920 года о заключенных за пределами лагеря сообщал воспитательно-показательный приказ управления: «Принимая во внимание особенно ревностное отношение к делу и чрезвычайно добросовестное выполнение возложенных на заключенных Ивановского лагеря инженеров Кулакова Вас. Фед. Роговского Григ. Анатол. и Федорова Ив. Ал. задания по постройке Бабьегородской плотины на Москва-Реке <...> постановлением президиума ВЧК от 18 июня — ОСВОБОЖДЕНЫ — о чем и довести до сведения Комендантов всех лагерей Республики для постановления в известность заключенных» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 69; Оп. 8. Д. 16 Л. 13). В 1921 году заключенным работникам типографии как минимум обещали выходные дома. В обиходе первоначально связанные между собой назначение лагеря и допустимые послабления для заключенных расходятся. В апреле в лагерь уже и формально можно отправлять не только политических заключенных, поскольку, напомним, в это время «специального назначения лагерь не имеет», но одновременно это «лагерь закрытый и отпуски и командировки даются очень редко в исключительных случаях. Заключенные посылаются иногда по поручениям в сопровождении конвоя».
В июне 1922 года отчет о ревизии сообщает, что «отлучки разрешаются с разрешения Мосуправления (принудительных работ — ЕН). <...> постоянные пропуска имеют 5 человек работающих на внешних работах и различных советских учреждениях. Все заключенные обязательно являются к поверке в лагерь. За исключением <...> агронома Арбузова и типографа Васильева, коим разрешено Мосуправлением проживать на частных квартирах без явки в лагерь» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42). При этом помимо постоянных пропусков могли выдаваться и временные, сведения о которых, если не было ревизии, не отражались в документах. Указание являться к поверке говорит о том, что заключенных отпускали из лагеря без конвоя.
15 суток комендантам
В том числе благодаря сочувственному вниманию пролетарских чиновников опрятный быт заключенных, или их политической части, лагеря сохранялся: «Чистота в которой содержатся камеры зависит от состава заключенных, у некоторых очень чисто и прибрано с претензией на уют, у других грязновато, не прибрано». Так же оставался неизменным общежительный уклад охраны. В июне 1922 года проверка снова отмечает: «Санитарной обработки не производится из-за недостатка дров. Жилые помещения камеры и коридоры содержатся довольно чисто уборка 2 раза в день. Мытье полов 2 раза в неделю <...> недостаток швабр метелок и тряпок <...> уборщики камер меняются ежедневно. <...> коридорные уборщики <...> также уборка уборных <...являются> постоянными и освобождаются от остальных работ. Несмотря на общую чистоту <...> под лестницей были обнаружены скопления мусора и различного рода отбросов <...> произошло по неаккуратности наружной охраны лагеря (милиционеров) Загрязнение мусором и нечистотами <...>двора женского корпуса. <...> Всех уборных в лагере 9 <...> снабжены водопроводом и канализацией, функционируют почти без перебоя <...> содержатся довольно чисто, но требуют основательного ремонта <...> Вследствие слабого напора воды в уборных 2-го и 3-го этажа наблюдается частичное загрязнение стульчаков..<...> Мусор и отбросы сваливаются в специально вырытую яму на хозяйственном дворе лагеря, причем вывоз мусора был произведен всего лишь один раз в начале июня <...> бывшее ранее накопление мусора зарыто <...> и на этом месте устроен лагерный огород.
Обеспечен сырой водой удовлетворительно <...> Большинство жилых помещений снабжено водопроводными кранами и раковинами. (умывальниками). Главный водопроводный кран помещается в кубовой, прачешная <...> в 1-м этаже административно-хозяйственного корпуса, причем отсюда пользуются водой главным образом заключенные женщины т к как в помещении ими занятом ввиду бывшего злоупотребления с расходованием воды кран и раковины сняты по распоряжению администрации. Кипятком весь лагерь пользуется из кубовой, где установлена походная кухня — кипятильник полевого типа.
Кипяток до марта месяца отпускался 2-3 раза в день даже ведрами, а с марта ввиду острого кризиса с топливом один раз в день, с конца апреля до начала мая свыше двух недель кипятку совершенно не было. В первый день ревизии 2 раза, во второй кипятку для всех не хватило, а затем отпуск кипятка был снова прекращен...
Баня пропускного типа <...> раздевальня и ГЕЛИОС, помещение для мытья и одевальня отдельный вход и выход. <...>Баня до марта 2-3 раза в месяц <...затем> не чаще 1 раза в месяц последний раз в конце мая. <...>
Прачечная с марта в течении 2х с половиной месяцев совершенно не работала. <...> в настоящее время <...> нерегулярно <...> с недостатком топлива.
<...> Парикмахерская открыта для бесплатного пользования заключенных с 15.06 и обслуживается двумя парикмахерами, до этого работала нерегулярно и была платной.
Запасы белья для заключенных ограничены. Простыней 158, на складе 11, на людях 147, наволочек 153 на складе 26 на людях 127, женских сорочек 5, одеял 90 — на складе 2 на людях 88, полотенец 168 — на складе 89 на людях 79, платьев женских 4 шт. То что «на людях» частью в грязном, частью не годны к употреблению, так что на людях гораздо меньшее количество.
До марта сг ввиду регулярной работы бани и дезкамеры вшивости <...> не наблюдалось. С марта сг <...> в камерах занятых преимущественно уголовным элементом, вшивость периодически наблюдается. …<...> В январе не было случаев сыпного тифа, в феврале 1, в марте — 2. До марта существовала постоянная санитарная комиссия санитарного врача, представителя администрации и заключенных <...> Неделя очистки … производилась с 14 по 21 апреля. <...> холерного барака не имеется, противохолерных прививок сделано 231 чел.» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42).
«Хороший» лагерь служил гауптвахтой для несильно провинившихся комендантов лагерей. Наказывали их большей частью за выдачу запрещенных в Ивановском лагере отпусков. В ноябре 1919 года заместитель коменданта Новоспасского лагеря Маловченко за «тесное и выходящие за пределы установленного времени и неделового характера общение с заключенными и целый ряд отпусков заключенным» был арестован «на 5 суток без исполнения обязанностей. Арест Маловченко отбыть в Ивановском лагере» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 10а. Л. 2.). Еще один арест — в январе 1921 года — также отмечает в дневнике Малиновский: «Комендант Покровского лагеря сидит под арестом в Ивановском лагере за попустительство по отношению к заключенным в лагере». Из приказа известны подробности попустительства: «Комендант Покр.<овского> лагеря т. Гославский А. Я. за неподчинение неоднократным распоряжениям Управления о недопустимости предоставления отпусков заключенным без ведома Управления и без сопровождения конвоя — арестовывается на 15 суток без исполнения служебных обязанностей с 14 января с. г., Арест отбыть в Ивановском лагере. (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 2б. Л. 183). С 19 декабря 1921 года наказанный 15 сутками ареста за «самовольный отпуск заключенных Прохорова и Крюкова после чего имелся побег упомянутых заключенных» Новопесковский комендант Мицкевич трое суток отбывал в Ивановском лагере, остальные 12 — условно (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 24. Л. 228; Д. 26. Л. 12)
Если коменданты других лагерей становились заключенными Ивановского лагеря, то была и обратная ситуация. Заключенный Ивановского лагеря 27-летний «ученый-лесовод» Василий Васильевич Котлов на лесозаготовках у станции Крюково стал комендантом Крюковского лагеря (производственного района), оставаясь заключенным до ноября 1920 года. (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 52, 123, 221; Д. 90 Л. 187; Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1. Л. 82; Натаров Е.Ю. Крюковская колония // Сайт «Это прямо здесь». https://topos.memo.ru/article/741+300).
Особое назначение помимо прочего поддерживало административную обособленность учреждения, которая в свою очередь, видимо, и делала немного более свободным положение заключенных. Московские лагеря в 1919 году подчинялись двум учреждениям: Главному управлению принудительных работ, которое было создано первым и ему были подчинены созданные ВЧК лагеря, и созданному позже Московскому управлению принудительных работ. Мосуправлением «Ново-Спасский и Ново-Песковский приняты от Главного Управления с 1-го ноября 1919 года». Звенигородский принят 1 сентября 1920 года. Особые Андроньевский и Ивановский лагеря переданы не были. Ивановский остался на особом положении, подобно ставропигиальному монастырю, в котором он находился. Повседневные административные отношения, которые связывали его с другими лагерями, и хозяйственные нужды привели к тому, что весной 1922 года лагерь подчинялся одновременно трем ведомствам: «В политическом отношении лагерь подчинен Главному управлению принудработ НКВД, в административно-хозяйственном — Мосуправлению принудработ (с апреля 1922), а в технически- производственном Принкусту» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42). Вероятно, Главное управление ведало назначением комендантов, а Мосуправление, как было упомянуто выше, ведало довольствием, издавало текущие распоряжения и, в частности, как отмечено выше, давало «отпуска» на выход из лагеря и разрешение жить дома. Последнее учреждение — Куст предприятий принудительного труда — заведовало фабриками и мастерскими в московских лагерях, что, как предполагалось, должно было снабжать его средствами для содержания администрации лагерей и заключенных.
К октябрю 1921 года, когда особое назначение получил Андроньевский лагерь, под давлением бытовых обстоятельств и хозяйственных нужд название лагеря Ивановского все меньше соответствовало составу его заключенных, что неявно отмечено в отчете 12 октября 1921 года: «Лагерь именуется Ивановским концентрационным особого назначения. <...> содержатся заключенные совершившие различного рода преступления, осужденные различными судебными органами на различные сроки. Разделения заключенных по группам не имеется». Так, например, упомянутый в дневнике Малиновского студент Панин был отправлен в январе 1921 года в лагерь за взятку. Отчет 17 ноября подчеркивает произошедшую к этому времени перемену: «Лагерь раньше был исключительно для долгосрочных, а теперь состав заключенных смешанный. <...> Раньше заключенные подразделялись по категориям, <сейчас> категорий нет». При этом элементы юридической процедуры, в частности порядок освобождения и продолжительность заключения, оставались неопределенными и так: заключенные «поступают из Новопесковского распределителя и освобождаются по ордерам ГУПР. Есть заключенные без суда числящиеся за ВЧК, МЧК и ОО фронтов» (Ф. Р393.Оп. 89. Д. 203. Л. 170, Л. 193).
С утратой черт классовой враждебности в л/портрете заключенных постепенно изменяется представление о том, чем являются лагерь и заключение в нем. В 1921 году, напомним, он не только место изоляции классовых врагов. Контрреволюционность заключенных, которую подчеркивали ранее, в расчет принимается все меньше. Хотя приведенные выше отчеты отмечают, что в лагере содержатся «офицеры белых армий по распоряжению ВЧК», но заключение, бывшее в 1918–1920 годах способом обезвреживания врагов, уже воспринимается как форма приобщения к трудовой жизни в пролетарской республике. В 1919 году женщинам в Ивановском были положены «по очереди <...> принудительные работы (стирка белья)» (Ф. Р8419. Оп. 1. Д. 277. Л. 101).
Но с конца 1920 года администрация лагеря должна была организовать мастерские, работая в которых привыкшие к праздности или не имевшие навыков труда заключенные обучались бы ремеслу и соответственно становились трудящимися. Классовая чуждость заключенного или, напротив, близость становится не важна. Обучать следовало и уже почти бывших карасей контрреволюции, как, например, профессора Малиновского переплетному мастерству, и «уголовный элемент» рабоче-крестьянского происхождения, чьи камеры и вши упоминались в отчетах. В апреле 1921 года «в лагере есть мастерские в которых заключенные обязаны работать: типография, переплетная, жестяночная, швейная трикотажная, небольшая портновская и сапожная. Труд оплачивается по ставкам профсоюзов, 3/4 заработка удерживается на содержание и довольствие заключенных. Средний заработок за месяц поступающий на руки заключенным, около 1000 р (около 24 р в день и 1/ 2 ф. Хлеба)» Большинство мастерских было закрыто, а «заключенные работают преимущественно в двух мастерских: типографии и переплетной, слабо действуют трикотажная и столярная, остальные мастерские (жестяная, сапожная и др) закрыты».
Администрация лагеря, чтобы сделать отчет убедительным (предыдущие сведения выбраны из отчета Красного Креста), записывала в мастерские все сколько-нибудь подходящие лагерные работы. Добродушный ревизор 12 октября 1921 года перечисляет многочисленные отрасли натурального хозяйства лагеря: «Порядок использования труда заключенных — образцовый, работают только на внутреннем производстве. <...> типография, переплетная, швейная, портняжная, сапожная, жестяная, плотничная, кузнечная, водопроводно-сварочная, прачешная, вязальная и малярная. <...> Производительность труда учесть невозможно <...> твердых норм выработки нет <...> заключенные получают 25%. <…> отношение заключенных к работе добросовестное. <…> за время пребывания в лагере 3–6 месяцев, не знающий абсолютно никакой специальности получает любую из организованных» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 170). Часть мастерских находилась в комнатах-кельях, а часть — в галереях, как отмечено докладе 1919 года. В описании схемы лагеря 1921 года указан пункт «С – жестяная мастерская». Сам план в деле не отложился, но можно предположить, что она находилась в отдельном строении, например в галерее между храмом и келейным корпусом. Относительно легкая работа в швейной мастерской считалась привилегией. В прачечную могли отправить в наказание. Заведующий швейной мастерской угрожал заключенной Котлер увольнением из мастерской, а, как записывает Малиновский, «если будет уволена из швейной, то должна будет перейти в прачечную. Г-же Котлен, избалованной даме, такая перспектива совсем не улыбается». Помощник заведующего «с такой же угрозой <...>обратился к <...> Шиманской». В дневнике фамилия Котлер искажена.
Для охраны заключенных оказавшийся в лагере в декабре 1920 года инженер Максим Васильевич Трестер налаживает электрическое освещение и сигнализацию.
Печатные работы
За пределы круга подсобного хозяйства выходит типография и связанная с ней переплетная мастерская, которые и составляли лагерное производство. Согласно отчету ревизора Угарова 1919 года, напомним, в лагере есть только столярно-плотницкая мастерская. Подробно об истории типографии речь пойдет ниже. Устраивал переплетную мастерскую и типографию в конце 1920 – начале 1921 года анархист Андрей Антонович Зуев. Вероятно, у него был опыт организации печати: в 1905–1906 годах его арестовывали за распространение революционной — возможно, в том числе нелегально напечатанной — литературы (Ф. 10035. Оп. 1. Д. 31844. Л. 17–20). Зуев собирал квалифицированных рабочих и был первым заведующим печатным предприятием. Тот же инженер Трестер установил в нем электромоторы. Между апрелем 1920-го и маем 1921 года «в типографии <...> в качестве метранпажа и старшего наборщика» работал журналист Черепнин. Сам он свое участие ценил выше: «нес ответственную работу по организации и заведованию типографией». 29 июня 1921 года она уже выглядит производством: «Коменданту Ивановского лагеря особого назначения от зам. нач. типографии Варфоломеева Федора Григорьевича. <...> ваше категорическое уверение что добросовестным рабочим будет дана льгота в виде еженедельного праздничного отдыха с увольнением к семьям <...> дали самый положительные результаты в виде резкого поднятия производительности. <...> привлекли к работе даже тех рабочих спецов (печатников), которые формально по постановлению врачебных комиссий при Рождественском лагере были освобождены от всяких физических работ» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 24). Зуева к этому времени освободили, поэтому Варфоломеев, видимо, заведовал работами. В конце июня 1922 года в типографии «рабочих 80 чел. из них 16 вольнонаемных» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 11. Л. 194). Для сложных операций требовались квалифицированные рабочие, которые, очевидно, и были вольнонаемными. В типографии работали некоторые из 23 женщин, бывших в июне 1922 года в лагере. Помощник заведующего типографией и переплетной мастерской Соломон Давыдович Лифшиц просит Управление принудительных работ: «Ввиду сильно утомительной работы и ядовитости пыли от работы в типографии и переплетной мастерской, работающим женщинам, которые работают ежедневно 8 часов и выполняют трудную и как я показал выше в тяжелой атмосфере воздуха работу, а потому ходатайствую и прошу дать соотв приказание Коменданту лагеря на право разрешения после работ женщинам совершать прогулку в саду при дворе лагеря до 9 часов вечера т к хорошие гигиенические условия полезны для здоровья и повышают производительность труда. 19/6 — 1922» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 39 Л. 182; Ф. 10035. Оп. 2. Д. 566 (Оп. 1. 13248). Л. 185). В таких просьбах видно, как лагерь постепенно перестает быть военным учреждением. В частности, между 1921 и 1922 годом были демилитаризованы названия должностей: начальник типографии стал заведующим, а его заместитель — помощником.
Печатали в это время бланки: 10 июня 1922 года Мосуправление предложило изготовить «личные карточки в кол-ве 500 штук необходимых для личного состава» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 39. Л. 146).
Листовка
В апреле 1922 года открылось «дело Типографии Ивановского лагеря». Началось оно с того, что заключенный наборщик Адам Константинович Шумский нашел 26 апреля в типографии набор контрреволюционной листовки «Ко всем гражданам» и сообщил о ней коменданту. Другой заключенный, заведовавший продлавкой Иван Михайлович Новокшонов, предъявил две напечатанные листовки и рассказал, что набрал ее заместитель заведующего типографией Варфоломеев, а печатать должны были «колчаковские офицеры». Листовка призывала «граждан к открытому выступлению против изъятия церковных ценностей так же против издаваемых распоряжений».
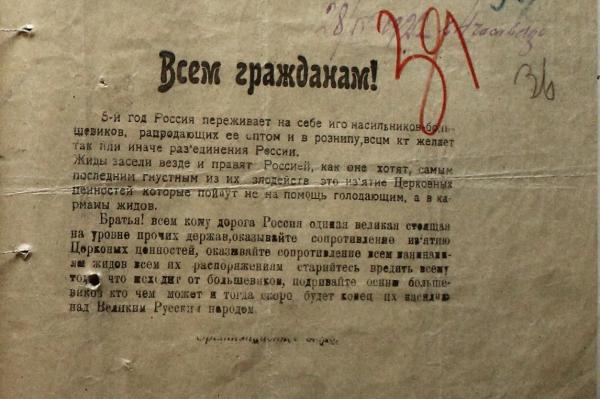
Листовка напечатанная в типографии лагеря. Источник: ГАРФ. Д. П75193 (Копия в архиве Общества «Мемориал»)
Напечатать ее должны были вечером 29 апреля и разбрасывать на первомайской демонстрации. Кроме Варфоломеева 27 апреля арестовали Василия Семеновича Зосимова, Михаила Порфирьевича Орлова, Евгения Дмитриевича Станиславлева и Федора Никитича Венедиктова. Последние трое, как и Ворфоломеев, были заключенными и считались «колчаковскими офицерами». В июне их всех освободили от обвинения и из тюрьмы, куда их отправили, но не от заключения в лагере. До ноября расследовалось дело о том, как «с целью спровоцирования» инспирированный Шумским Новокшонов написал воззвание, а осужденный за должностное преступление следователь Особого отдела Шумский его набрал и напечатал — «на его <Новокшонова> предупреждение, чтобы с этой затеей не попасть в галошу, Шумский ответил "ничего, как откроем нам будет вознаграждение"». Кроме них обвинялся сосед Новокшонова по комнате Кузьма Григорьевич Николаев, который видел, но не сообщил о том, что пишется воззвание. «Спровоцирование», порожденное отчасти и личным конфликтом, было направлено против «колчаковцев» Орлова, Ворфоломеева и Станиславлева. В результате Новокшонова с Шумским обвинили и в печатании контрреволюционной листовки, поскольку они ее печатали, и в заведомо ложном доносе на других заключенных, а Николаева — в недоносительстве. 10 ноября суд особой сессии приговорил по статье 179 УК (ложный донос и создание доказательств) Новокшонова к шести годам, Шумского к трем, а Николаева освободил за недоказанностью участия. В суде Новокшенов объяснял, что хотел освободиться досрочно, получить вознаграждение и поступить на службу в ГПУ. Вероятно, последнее он получил. Еще в мае, до перемены обвинения, следователь сообщал, что Новокшонову, будущему автору «Потомка Чингизхана», «предстоит агентурная работа (работает у уполномоченного МГО Вуль)». Подробнее об участниках «дела Типографии» в приложении (Ф. 10035. Оп. 1. Д. 13248. Л. 2-6, 40 – 44, 54, 63, 64, 82, 96, 110-115, 155, 185, 192, 198, 200, 211, 219, 220, 229, 233, 247).
Расходы и долги
Предполагалось, что заключенные будут в мастерских зарабатывать. Согласно процитированному выше отчету 1921 года, они могли рассчитывать на четверть заработанного. При этом денежные расчеты оставались условностью. В июне 1922 года они выглядели собранием столь же условных, поскольку неоплатных, долгов: «Рабочая сила заключенных используется лагерем в своих мастерских почти полностью. На 24 июня работами были заняты 146 человек. 7 человек в служебных командировках. 3 — в карцере и 30 человек освобождены от работ как иностранные подданные, согласно общего правила. <...> Мастерские — типография и переплетная — производственные, и ряд мелких обслуживающих хозяйственные службы лагеря (портняжная сапожная, слесарная) <...> В производственных мастерских <производятся работы> по нарядам и заданиям Принкуста. <...> в остальных по указанию и распоряжению завхоза. <...>Жалование <выдается> из средств лагеря <...> задолженность лагеря заключенным <...> 70 миллионов <...> удержания в пользу голодающих с ноября мес 21 г и по 1.4. сг в сумме 9 250 000, не сданы до сего времени по назначению, <...> в наличии не имеется, израсходованы на другие надобности. Имеются задолженности лагеря и лагерю <...> например, Андроньевкий лагерь должен 50 000 000, удержанные со служащих за паек 95 000 000 по назначению не сданы» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42).
В январе и апреле 1922 года лагеря были формально сняты с государственного снабжения. Предполагалось, что это заставит лагерную администрацию получать средства на содержание за счет работы заключенных. В связи с этим в марте издали еще один приказ об устройстве мастерских (4042 Оп 8. Д. 48. Л. 21). Двойное снятие со снабжения связно с тем, что не выполненное решение повторили еще одним, так же не выполненным. Снабжение лагерей осталось прежним. Как было отмечено выше, продукты лагерь получал бесплатно, а за пайки — продукты для вольнонаемных сотрудников, что были формально платными, —рассчитывались или записывали долги ведомства. Видимым результатом снятия со снабжения стало закрытие большинства больниц для заключенных, в том числе и в Ивановском лагере.
Когда была открыта в Ивановском монастыре больница, точно не установлено. Напомним, что в 1919 году предполагалось «организовать одновременно с лагерем центральную больницу с целым рядом отделений по роду болезни». Но еще 30 сентября комендант жаловался на то, что «Бутырская больница не приняла заключенного из лагеря». В Бутырскую больницу заключенных отправляли, но в это время только из подчиненных Наркомюсту тюрем. Как объясняли коменданту, больница «принимает только по указанию 9 отделения». Вероятно, имеется ввиду 9-е отделение Карательного отдела Наркомюста, которому формально отводилась «организация надзора и попечения над лицами, отбывшими наказания». В данном случае оно визировало отправку заключенных в больницы. В это время «для больных заключенных в концентрационных лагерях» был назначен «бывший Брестский госпиталь на Пресненской заставе», который и стал называться Центральной больницей концлагерей. Из подробной справки 1922 года видно, что инфекционная, или, на языке того времени, заразная, больница в девяти кельях на первом этаже трехэтажного корпуса открыта к зиме 1920 года: «До снятия медико-санитарной части лагерей принудработ с госнабжения те до 1.5. сг (1922 — ЕН) в Ивановском лагере существовала больница (околодок) <...> В период эпидемии сыпного тифа зимой 1920 года <...> ввиду переполнения бывшей заразной Брестской тюремной больницы вся лагерная больница была превращена в стационарное отделение для сыпнотифозных больных, с приданием ей функций госпитального характера. Все больные выдерживались в лагерной больнице вплоть до полного излечения. <...> До 15.11.21 имела 30 коек, а после 15.11.21 — сокращено до 25, по снятии госснабжения больница была ликвидирована. С 15.5. осталась только амбулатория, которая существует по настоящее время». <...> Амбулатория временно находится в прежнем помещении <...> Ввиду расширения типографии предположено ее перевести в непосредственной близости к карантину т.е. во второй этаж мужского корпуса состоящее из 7 комнат значительно меньшего размера, совершенно не изолированное от карантина и имеющее с ним общий коридор и уборную.
Амбулатория открыта для подачи первой помощи в течении круглых суток. <...> ведется постоянное суточное дежурство среднего медперсонала. Прием больных врачом ежедневно кроме праздничных дней с 9 до часу. В остальное время дежурный медперсонал. При амбулатории изолятор с 6 кроватями для временной изоляции подозрительных по инфекции больных не более одного–двух дней. Ввиду снятия с госснабжения из-за отпуска перевязочного материала и медикаментов помощь сократилась <...> запасы медикаментов бывшие в достаточном количестве значительно уменьшились. <...> Амбулаторной помощью пользовались ранее в амбулатории при рождественском лагере, где до ее ликвидации 15.5.1922 производился прием по всем специальностям. <...> отправляются в одну из ближайших коммунальных амбулаторий Городского района <...> причем за отсутствием конвоя происходит задержка отправки <...> Пользовались лечением больные не заразные и не требующие госпитального лечения. Все остальные <...> женщины как заразные так и не заразные <...> во Вторую Лефортовскую больницу, а мужчины заразные в Ходынскую, а не заразные в Брестскую больницу. По ликвидации с 15.05. сг Ходынской и Брестской больниц <...> отправляются в московскую тюремную Бутырскую больницу. Учет медикаментов велся. Медикаменты получались через тюремную инспекцию МОЗ <Московский отдел здравоохранения> из 1-й центральной аптеки распределителя на Мясницкой. (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42).
12 октября 1921 года в амбулатории и больнице «при лагере <...> небольшой недостаток в медикаментах, <...> перевязочные средства отсутствуют. Условия содержания больных удовлетворительные». По отчету 17 ноября 1921 года, который, очевидно, описывает уже почти закрытое учреждение, «имеется больница на 30 коек, амбулатория, зубоврачебный кабинет» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203 Лл. 170 193). Лечили в кабинете заключенных и других лагерей. Александра Толстая, которую 18 августа 1920 года отправили лагерь в Новоспасском монастыре, вспоминает: «Нас собралось человека четыре с больными зубами. Надо было идти довольно далеко — в Ивановский монастырь, также превращенный в лагерь, где имелся зубной врач для заключенных» (Толстая А. Л. Проблески во тьме. М., 1991. С. 60).
Закрытому околодку полагался врач, зубврач, лекпом (лекарский помощник), две сестры милосердия, четыре санитара, дезинфектор, завед. баней, завхоз, кастелянша, письмоводитель и 1 повар. При этом «из 11 чел. мед персонала и 4 чел. — хозперсонала 9 чел среднего и нисшего звена — заключенные». В оставшейся амбулатории весь персонал: врач, два лекпома, сестра милосердия и 1 санитар — вольнонаемные. Этим перечислением сожалевший о закрытии больницы инспектор указывал на то, что после закрытия сократилась только одна вольнонаемная, то есть оплачиваемая должность. Сотрудников в амбулатории было меньше положенного, а лекарства скоро закончились. Еще одна, чуть более поздняя ревизия лета 1922 года констатирует, что в лагере «врач один, фельдшериц 2. имеется аптека, но никаких медикаментов нет» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 11. Л. 19).
Околодок — военное название медицинского учреждения — предназначался, в отличие от больницы, для нетяжелых больных. В обиходе важное для учета различие больницы и околодка игнорировалось.
В феврале 1921 года околодок-больницу упоминает Малиновский: «19 февраля. Умер в больнице мой товарищ по камере Давид Владим. Вигель. Ровно неделю тому назад ушел в околодок, из околодка через два дня перевезли в больницу. Оказалось злокачественная ангина. Лопнул нарыв в горле. Умер от заражения крови.<...>
22 февраля. Вигель, слава богу, жив. Был большой нарыв в горле. Задыхался. Думали, что не выживет. Третьего дня вернулся из больницы: бледный, осунувшийся, слабый. Теперь снова лег в околодок». Из лагерной больницы-околодка Вигеля отвозили в больницу за пределы лагеря.
Малиновский несколько раз обращался врачу из-за крайнего утомления: «5 февраля. На прошлой неделе был у доктора на приеме. Внимательно меня осмотрел и сказал, что, к сожалению, систематическое лечение в лагере невозможно. Прописал железо; сказал, чтобы через неделю я снова пришел на прием; спросил, между прочим, не тяжелы ли для меня работы; я ответил, что не тяжелы.<...>
3 марта Я отправился к доктору и взял записку, что, вследствие болезненного состояния, освобождаюсь от тяжелых работ». В лагерных документах фамилия врача встречается в связи с его же болезнью. 18 ноября 1919 года комендант сообщает, что «доктор вверенного мне лагеря Хайкин заболел». Доктор выздоровел, и 7 июня 1921 года комендант Крюковского лагеря отчитывается в том, что тот «обслуживается лекарским помощником из заключенных Велером и врачом Ивановского лагеря Хайкиным, последний бывает 2 раза в неделю». Управление выправляло Хайкину Израилю Ильичу «годовой билет до станции Крюково и обратно <...>где он проводит амбулаторные приемы заключенных» (Ф. Р393. Оп. 85. Д. 7986; Оп. 89. Д. 69б. Л. 116; Д. 203 Л. 17). Работавший в лагере врач (терапевт, внутренние болезни) Израиль Ильич до середины 1920-х годов жил в монастырских кельях. Его адрес М. Ивановский переулок 2. указан во «Всей Москве» на 1924 и 1925 годы (Ф. Р393. Оп. 85. Д. 7986). Диплом врача он получил после 1916 года, поскольку его нет в «Медицинском списке» на этот год. В марте 1921 года инспектору Красного Креста «жалобы поступают на околодок, формальное отношение к своим обязанностям врача». Кроме того, в это время «врачу помогает один из врачей заключенных, и это дает возможность лучше обслуживать больных». Через месяц такой же доклад сообщает, что «врач прежний сейчас заболел тифом и временно околодок в руках у фельдшерицы из заключенных, ждут нового (хотя бы временного) доктора. Есть недостаток в медикаментах самых ходовых, редкие средства есть, употребительных не хватает. Чувствуется недостаток и в перевязочных средствах и инструментах». Помогать врачу и подменять его могла окончившая женский медицинский институт (Петроградский?) «женщина-врач», как она представлялась сама, Алевтина Альбертовна Стругач. В Ивановский лагерь ее перевели не позднее февраля 1920 года. До октября 1920 года в Ивановском лагере оставался фельдшер — медик-пятикурсник Московского университета Евгений Новосильцев. За больными могли ухаживать заключенные сестры милосердия: Варвара Алексеевна Никифорова, Галина Николаевна Терентьева, Мария Павловна Воронцова, Екатерина Алексеевна Итулина и Татьяна Алексеевна Шауфус. Первых двух отправили в Ивановский лагерь летом 1919 года, остальных — в начале 1920-го.
Подтверждая особое положение заключенных, корреспондент «Известий» указывает, что «в этом лагере есть нечто и такое, чего нет в других: культурно-просветительный кружок, зарегистрированный… при Наркомпросе» (Известия ВЦИК. 19.10.1919).
В 1920 году кружок стал массовым, соразмерным лагерю обществом. В январе 1921 года, как записывает Малиновский, «в кружке свыше 200 членов» — две трети заключенных, заплативших 100 рублей за вступление. Управлял кружком-обществом избираемый комитет. В 1910-х годах подобными кружками и учреждались театры. К декабрю 1919 года в комитет входили «председатель А. В. Морозов, тов председателя В. Я. Тавастшерна, секретарь Н. В. Новожилов» и «члены комитета по секциям Е. Лызлов, Я. Ф. Энтин, С. Горчаков, Н. Коссов» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 92 Л. 16, 22).
Предположительно, председательствовал комитете Алексей Викулович Морозов, из рода купцов-коллекционеров. Кроме того, культурную бюрократию составляли Владимир Ялмарович Тавастшерна, Николай Васильевич Новожилов, Евгений Николаевич Лызлов, Яков Федорович Энтин, Сергей Дмитриевич Горчаков и Николай Николаевич Коссов. За расходом средств следила ревизионная комиссия с председателем Зеленко. Уже осенью 1919 года, сразу после устройства лагеря, начались спектакли. В декабре, удовлетворяя «потребность в приобретении париков, грима костюмов», комендант Найчук разрешил «командировать в город в сопровождении конвоира <…> Лызлова Евгения Николаевича, Тавастшерна Владимира Ялмаровича» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32Б. Л. 277), последний и был руководителем театральной части кружка — «Теосекции». Кроме нее были еще секции библиотечная и научная. Отдельно устройством постановок ведало «организационное ядро театральной секции Ивановского лагеря». Председательствовал в нем также А. Морозов. Кроме выше перечисленных (исключая Новожилова) ядро составляли Лев Васильевич Ретюнский, Евгения Яковлевна Михайлова и Марина Михайловна Ушакова.
В начале мая 1920 года ивановские постановки впечатлили рецензента «Вестника театра» издания ТЕО (театрального отдела) Наркомата просвещения:
«Узнав случайно, что на праздниках в Ивановском концентрационном лагере устраиваются заключенными спектакли, я отправился туда. И не будет преувеличением сказать, что я там увидел едва ли не самое своеобразное из длинного ряда «театрального», что пришлось мне видеть вообще.
После внимательного опроса меня впустили. Сзади с грохотом захлопнулись тяжелые монастырские ворота. Провели вглубь широкого двора, окруженного строениями — длинными церковными переходами, галереями и корпусами, где прежние кельи превращены в камеры.
А в длинной узкой комнате, — бывшей трапезной монастыря — помещается театр. Оказалось, что театральный кружок существует в лагере уже с прошлой осени, даже где-то зарегистрирован, но никто им не интересуется и о спектаклях его знают только заключенные и администрация этого лагеря и лагерей Новоспасского и Покровского, где «халтурила» эта труппа, конечно безвозмездно.
Мне показали репертуар кружка за 6-7 месяцев его жизни, — это оказалось солидным списком более 20 пьес. Правда большинство из спектаклей было обречено на участь бабочек однодневок, но это не мешало участникам ставить такие вещи, как "Ревизор", "Женитьба", Чеховский "Иванов", "Кин" — А. Дюма, "Светит, да не греет", "Свадьба Кречинского", и т п. Были и вечера со сборной программой, которыми перемежались крупные постановки. Это давало возможность готовиться, репетировать.
Раз ставили даже "Камеристку", прелестную остроумную миниатюру Бориса Садовского, которую одна из участниц кружка играла "на воле" и по памяти записала целиком для постановки в лагере.
Все сделано и делается собственными силами, при содействии коменданта. Играют только заключенные — та небольшая группа «изъятых из обращения», которые причастны к искусству» (А. С. Театр Ивановского лагеря // Вестник театра. 1920. № 63).

А. С. Театр Ивановского лагеря // Вестник театра. 1920. № 63
Замечание репортера о том, что спектакли игрались в трапезной, подтверждается и другими документами. Ни в одном описании театр не отмечен как обособленное от корпусов помещение, и ревизор перечисляет театральную залу в общем ряду комнат, занимаемых лагерем, самая большая из которых — трапезная. Представления о том, сколько в ней могло поместиться зрителей, различаются. В 1919 году ревизор заключает, что театральная зала «вмещает от 300 до 400 человек». По справке 1923 года, зал «располагает 20 скамейками, на которых можно поместить не менее 200-х сидящих зрителей, зрительный зал рассчитан на 250 чел.». Во время спектаклей в зале помещалось меньше. В январе 1921 года Малиновский записывает, что «театр рассчитан на 160 мест, а в лагере всех заключенных больше 300. Поэтому одну и ту же пьесу ставят два раза подряд: один раз в субботу для членов культ-просвет. кружка, другой раз для остальных заключенных».
Первые отчеты о спектаклях относятся к весне 1920 года. 14 февраля 1920 года была организована Культурно-просветительная часть Мосуправления. Как отмечает, не вполне справедливо, заведовавший ею Ефим Григорьевич Герасимов-Герасин, «до этого времени просветительная и воспитательная деятельность в лагерях только намечалась в проектах, да и то не везде. Школы грамотности, библиотеки-читальни, театры, митинги итп. все это с точки зрения лагерной администрации считалось излишней роскошью в местах заключения». В отчетной записке Герасимова не подчинявшийся Московскому управлению Ивановский лагерь не упоминается. Но начинающиеся с марта отчеты говорят, что с этого времени просвещение заключенных для администрации становится желательно-обязательным. Рассказывая об истории кружка, театральный репортер припоминает, что тот «даже где-то зарегистрирован». Названия-омонимы приводят к небольшой путанице, поскольку не сам кружок, а «театральная секция Ивановского лагеря зарегистрирована от имени А. В. Морозова как театральный кружок в Наркомпросе». Устроители Ивановского кружка, его театральной части, хлопотали о получении «особого назначения» для образцового института просвещения заключенных. Театральная секция, объясняя, что «кружок наш является как бы признанной культурной ячейкой», в феврале 1920 года подавала проект,
«чтобы из секции кружка Ивановского лагеря превратиться в инструкторский театральный кружок с задачами выходящими за пределы лагеря <...> для организации на первое время периодических спектаклей по всем лагерям Москвы». За гастролями должно было следовать «создание театральных ячеек» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 92 Л. 22).
Опыт выездных спектаклей упоминает корреспондент «Вестника театра». Вероятно, с этими планами и был связан приход репортера главного московского театрального издания. Некоторую независимость от лагерного ведомства получили искусства и просвещение также и в других лагерях. Позднее администраторы вспоминали «неудачный опыт 1920 года», когда «в течение 1 ½ лет культработа по мз <местам заключения> находилась в ведении Наркопроса» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 193. Л. 8).
Спектакли, вероятно, начались в октябре 1919 года, почти сразу после открытия лагеря. Напомним, корреспондент «Вестника театра» в мае пишет, что видел программу постановок за 6-7 месяцев. К его словам можно добавить, что среди них было два концерта-кабаре. Такова «программа третьего концерта кабаре 15 февраля 1920 года
Цыганские романсы — исп. Гальнева
Декламация — исп. Хомзе
Деревенское танго — исп. Зелинская, Тавастшерна
Романсы — исп. Молчанова
Соло на виолончели — исп. Горчаков
Танец апашей — исп. Хомзе, Энтин
Романсы — исп. Павлищев
Куплеты — исп. Эстров
Мелодекаламация — исп. Бальтерманц
«Фаншетто» — исп. Энтин
Декламация — исп. Новиков
Пение — исп. Быстрова
«Игрушечная лавка» исп. Короткова, Хомзе, Молчанова, Рындин, Говсеев, Постников и Лосев. Постановка Энтина. Слова Говсеев
У рояля Говсеев, Кирхор, Владимирова
Начало в 7 ½ час вечера».
Программа четвертого концерта-кабаре 29 февраля некоторыми, предположим, что наиболее удачными, номерами повторяла прежнюю. Их немного измененные названия уточняют содержание номеров:
«Сцена из «Мцыри» Лермонтова — Новиков, Линденбаум
Драматический этюд Генца «Волшебные звуки» — Хомзе, Тавастшерна
Романсы — Быстрова
Соло на балалайке («Фаншетто»? — ЕН) — Энтин
Трио — Линденбаум, Тальберг, Энтин
Полька «Бебе» — Короткова, Рындин
Гротеск «Донна Клара» — Зелинская, Рындин, Постников, Энтин
Дуэт — Зелинская, Тавастшерна
Декламация модернистов — Хомзе
Танец апашей — Хомзе, Энтин
Куплеты — Лызлов
Романсы — Рындин
Соло на виолончели — Горчаков
У рояля Владимирова, Кирхнер
Конферансье — Энтин
начало в 7 часов».
Часть участников концерта выступала и на профессиональной сцене. «Актер» указано в анкете Ростислава Николаевича Линденбаума (сведениями о других его выступлениях не располагаем). Валерия Владимировна Молчанова осенью 1920 года просит из Андроньевского лагеря ее «перевести обратно в Ивановский лагерь. <...> Была переведена как артистка, но выступать на открытой сцене не могу». В Ивановском у нее 2 двоюродные сестры, и родителям было трудно ходить в два лагеря (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 87. Л. 312). Предположительно, в 1915 году Валерия Молчанова состояла в антрепризе Фебера «Миниатюры», которая давала спектакли в Елисаветграде (Театральная газета. М., 1915. №12. С. 7; Рампа и Жизнь М., 1915. №15. С. 15). Подробнее — в биографическом приложении. Предположение отчасти подкрепляется тем, что монастырская трапезная сама стала театром миниатюр. Кузина Молчановой Екатерина Альбертовна Хомзе — ученица Строгановского училища / 1-х Государственных свободных художественных мастерских также была знакома с профессиональным театром. Татьяна Фохт-Ларионова вспоминала «Кэти Хомзе (нашу художницу)» среди участников театральной труппы, концертировавшей в 1918–1919 годах. В дневнике Малиновского также упомянута «Хомзе — артистка». Вероятно, благодаря памятливым Хомзе или Молчановой и была поставлена «Камеристка». Хомзе скорее всего помнила и поэтическую миниатюру Генца, разыгранную вместе с Тавастшерной. Софья Николаевна Быстрова пению училась в Петербургской консерватории, «которую не совсем закончила», и еще учась выступала с концертами. Скорее всего хорошо владел инструментом дошедший при царе до высоких чинов Сергей Дмитриевич Горчаков. Свое послеоктябрьское положение он определял и «бывший губернатор», и — не без иронии — «сельский хозяин». В ноябре 1920 года в графе «профессия», видимо, учитывая свои занятия в Ивановском лагере, Горчаков записал «музыкант, виолончель». Автор «Лавки» и аккомпаниатор Виктор Юльевич Говсеев в 1920-х годах состоял пианистом-импровизатором в «Мастерской драматического балета», переводил и работал в издательстве технической литературы. Участвовал в этом номере и комическом танго «Донна Клара» профессиональный литератор-эсперантист Александр Алексеевич Постников. К обычному имени он добавлял Ридонзо. В скудной сводке занятий Якова Федоровича Энтина — «присяжный поверенный <...> в Красной Армии на должности производителя» — не угадать центральную фигуру конферансье, постановщика и музыканта. Также в кабаре участвовали Николай Яковлевич Бальтерманц, Марья Дмитриевна Короткова, Роман Федорович Кирхнер, Александр Александрович Тальберг, Евгений Николаевич Лызлов, Петр Александрович Новиков, Дмитрий Константинович Лосев и Марта Викторовна Владимирова. Очень вероятно, что в концерте участвовали Исаак Леонтьевич Эстров (он упомянут в списках заключенных Покровского лагеря), Ант.<онина> Ив.<ановна> Зелинская (есть в общем алфавите заключенных учтенных Красным Крестом) и Николай Митрофанович Рындин (он был арестован вместе с Коротковой). Романсы исполняли Павел Николаевич Павлищев и Прасковья Гавриловна Гальнева.
Между концертами 22 февраля «труппой заключенных <...> под управлением В. Я. Тавастшерна» был представлен упомянутый «Вестником театра» «КИН или беспутство и гений» — крупная вещь, которую репетировали между кабаре. Петр Александрович Новиков, поставивший спектакль и сыгравший главную роль Кина, в видимой части своей долагерной жизни с 1914 по 1916 годы служил в Боброве исправником (что и отправило его в лагерь), а затем торговым агентом. Большинство ролей сыграли участники кабаре: Энтин (принц Уэльский), Тавастшерна (лорд Мельвиль), Постников (Граф Кефельд), Короткова (Эми графиня Госвиль), Горчаков (режиссер театра), Лызлов (Cоломон суфлер Кина), Ленденбаум (Дариус парикмахер; Комедиант), Зелинская (Анна Демби), Хомзе (Пистол акробат), Гальнева (Кети акробатка), Рындин (Бардольф комедиант), Павлищев (констебль), Молчанова (Джюли), Николай Николаевич Ульянов (Давид комедиант), Иван Козмич Мамонов (Джон Куке кулачный боец) и Афанасий Васильевич Любицкий (Петр Петт содержатель Таверны). Сыгравшая графиню Кефельд Антуанетта Михайловна Свет-Востокова до замужества была Тулубьевой-Лавровой. Сведения о артистке не разысканы, но на сценический опыт указывает то, что дворянская часть фамилии (Тулубьева) словно дополняется распространенным артистическим псевдонимом (Лаврова). Генерал-майор Павлищев выходил констеблем. Роль лакея получил, вероятно, Алексей Христианович Кононов,
В марте спектаклей не было. Возможно, из-за недостатка средств, которые на постановки получались отдельно по распоряжению ВЧК. В начале марта 1920 года Лызлов, ставший к этому времени председателем Комитета Кружка, просил Медведя Ф. Д. отпускать не 500, а 1000 рублей на спектакль, поскольку «цены удвоились». Филипп Демьянович Медведь на тот момент прямого отношения к заключенным не имел, поскольку заведовал лагерями и Отделом принудительных работ с сентября по декабрь 1919 года. Так что в это время ивановские постановки находились на попечении члена Коллегии ВЧК и начальника Особого отдела Западного фронта.
В апреле театральные вечера возобновились. Шестого числа игралась «"Женитьба Белугина" комедия А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева. режиссер Перешивкин», а тринадцатого — «"Семья преступника или Гражданская смерть" драма Карамети». Афиша следующего месяца сообщала, что «29 мая 1920 труппой заключенных Ивановского лагеря представлено будет: «М-lle Нитуш» комедия оперетта Миляка и Милло» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 92 Л. 21, 24, 25,27, 28, 32). «Белугина» и «М-lle Нитуш» поставил бухгалтер и секретарь Московского общества «Музыка и драма» Константин Сергеевич Перешивкин. Он же сыграл главную роль Андрея в «Белугине» и Августина в оперетте. Кармину играла Молчанова. Недавно сыгранный спектакль в репортаже «Вестника театра» не упоминается. Вероятно, рецензент оговаривается и, перечисляя среди постановок «Светит, да не греет», имеет в виду «Женитьбу Белугина». Обе пьесы написаны Соловьевым и переработаны Островским.
В спектаклях участвовало большинство артистов кабаре. В «Белугине» играли Короткова (Таня), Энтин (Агишин), Гальнева (Наст. Петр.) и Рындин (человек Карминой). В обеих постановках роли были у Лызлова (Гавр. Пант. и полковник де Шато-Жибус) и Зелинской (Ел. Вас. и Дениза де-Флавиан). Роль Сыромятова получил, скорее всего, Иван Иванович Шариков (двух других постановках он отвечает за грим), а Прохора — Виктор Семенович Алейников.
В кроме них в оперетте играли Бальтерманц (режиссер), Мамонов (солдат), Хомзе (Корина), Сучкова (Сильвия), Короткова (Лидия), Владимирова (Прислужница).
В роли директора театра дебютировал Николай Александрович Белавин. Робера сыграл Александр Клавдиевич Серебряков, начальницу пансиона — Сусанна Робертовна Насакина, жена известного литератора и кинематографиста Николая Насакина. Густава мог играть Иван Николаевич или Василий Александрович Кузнецов. Оба они были в это время в Ивановском лагере. Выступающих немногим меньше, чем зрителей. Кроме того, что в пьесе много ролей, финал опереточной афиши обещал «у рояля Кирхнер, хор 20 человек под управлением Княжевского, суфлер Бастамов, гример Шариков, пом. режиссера Лосев <...>начало в 8 вечера». Руководил хором Виталий Иванович Княжевский. Хоть сколько-нибудь прояснить личности Бастамова, Аленковича (Фердинанд) и Липяцкого (Лорио) не удалось.
Вследствие административной обособленности репертуар — бытовая драма и мелодрама в классовых декорациях — неявно отличался от того, что предписывало Мосуправление. Первым было устроено кабаре — самый осуждаемый и современными критиками, и сторонниками лагерного просвещения, в том числе и Малиновским, за легковесность и зубоскальство театральный жанр рубежа веков.
Большинство классических постановок — комедии. И их ставили тогда, когда театр был делом исключительно заключенных. «Камеристка» Садовского с изяществом насмехается над назидательностью. При этом виртуозная стилизации Садовского допускает и непародийное мелодраматическое прочтение.
Этюд Генца, где романтический герой мстительно разоблачает изменчивую природу возлюбленной, моралью отсылает к светской повести 1830-х годов. Островский же, отмеченный в записке Мосуправления, мог быть выбран с учетом пожеланий руководителей просвещения. При этом поставлены его поздние и очень популярные пьесы, которые он писал в соавторстве и переводил. Наиболее воспитательные постановки сочетали мелодраму и классовый конфликт, правда аристократии с буржуазией, которая уже контрреволюционно выглядит трудящимся классом. Драматическая, как и концертная афиша могла бы составить программу сезонов прежней жизни и этим изолирует заключенных от послеоктябрьского мира. Белугин — чувствительный и прогрессивный фабрикант, и отказавшаяся от нечестной жизни аристократка едет за ним на фабрику, чтобы помогать мужу в труде и работе. В 1910-х годах этой мелодрамой, предполагавшей полный сбор, театры часто открывали сезон. Беспутный гений Кин, также очень популярный в начале 20 века, обличает пороки аристократии. В «Семье преступника» источником мелодраматической коллизии становится несправедливость сословного общества. Название этого спектакля соединяет оригинальное название пьесы П. Джакометти «La morte civile» с названием сделанного Островским перевода. Предположительно из-за значительных изменений (сокращения?) имя автора мистифицировано. На афише имя автора (Карамети) созвучно имени главного героя (Коррад). Сыграл его и поставил спектакль Новиков. Второй ивановский режиссер — Перешивкин —сыграл монсеньора. В других ролях тот же, как написал бы рецензент 19 – начала 20 века, персонал: Энтин (доктор), Курлянд (дон Фернандо), Зелинская (Розалия), Короткова (Агата), Хомзе (Эмма), Алейников (Гаэтано). Помреж Лосев, суфлер Трестер, гример Шариков. Подавала текст актерам Валентина Ивановна Трестер. В концертах, скорее всего более ранних, программы которых не сохранились, Валентина Ивановна была за роялем. Быстрова вспоминала их общие выступления: «Я пела, а она мне аккомпанировала». После освобождения они жили вместе. Несколько лет вместе с ними жил Тавастшерна, за которого Валентина Ивановна вышла замуж. К 1930 году они в разводе. Фердинанда играл будущий идеолог Торгсина Ефраим Владимирович Курлянд.
В это же время, в марте – апреле 1920 года, недалеко от лагеря в Вольном театре, занимавшем помещение быв. Колизея на Чистых прудах, эта же пьеса Джакометти шла в постановке Д. Гутмана. («Вестник театра». 1920. № 59. Программы московских театров с 30 марта по 4 апреля 1920 года. С. 7). Рецензент П. А. Марков стыдит постановку за «безвкусные аляповатые костюмы неизвестно какой эпохи» и «жалкие толпы статистов, изображающих парижскую аристократию» (Александров П. Три спектакля мелодрамы // Вестник театра. 1920. № 63; Любимов Б. Н., Тимофеева А. С. П. А. Марков // Театральная критика 1917–1927 годов: Проблемы развития: Сборник научных трудов. Л., 1987. С. 86). Можно предположить, что ивановская постановка была еще более скромной, но в репортаже «Вестника театра» она выигрывает: «Я видел здесь "Семью преступника" Джиакометти. Пусть "Вольный театр" остерегается: у него под боком появился конкурент, который ставит пьесы его репертуара. Но как они не похожи друг на друга. И надо было видеть те слезы, которые я видел на глазах зрителей в патетических местах мелодрамы, надо было слышать довольный смех, которым они встречали каждую победу благородного, доброго, каждое унижение ханжества и лицемерия, чтобы убедиться, какое огромное значение может иметь великая сила театра здесь, особенно здесь» (Театр Ивановского лагеря...). «Женитьба Белугина» в это время в Москве не ставилась, ее сыграют несколько раз в июне 1923 года в Большом Дмитровском театре, артисты театра «Комедия быв. Корш» (Зрелища. 1923. №41. обложка; №42. С. 23).


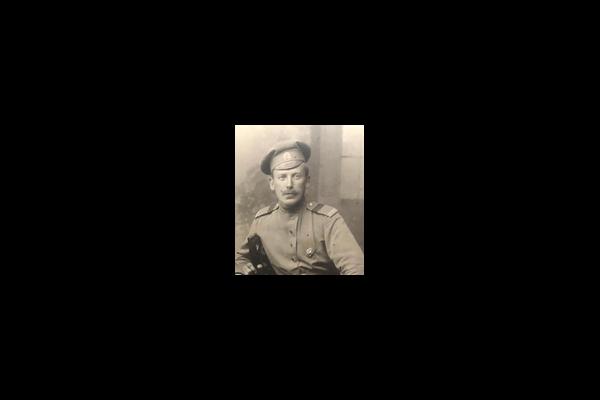
В августе 1920 года ивановская труппа выезжала на гастроли в Крюковский лагерь. Большая часть артистов: Хомзе, Короткова, Насакина, Владимирова, Княжевский, Алейников, Лызлов, Перешивкин, Серебряков — выступали и весной. В этой поездке к труппе присоединился кружковый ревизор и лагерный староста Зеленко. Кроме них в представлении участвовали новые артисты. Алексей Александрович Балавенский о профессии писал «артист-певец». Вероятно, в юности он выступал на небольших сценах, но к 45 годам он утратил слух — «я инвалид, глухой» — и занимался устройством спектаклей. В Торжке он заведовал клубом. Кроме того переводил пьесы и перевел русские песни на французский. В семье артиста родился Александр Матвеевич Плинер. Отец его был портным, но брат Николай — известным артистом театра миниатюр 1910-х годов. Позднее Николай Плинер играл и в Театре Сатиры. Теми же художественными дарованиями мог обладать и Александр. Владислав Дмитриевич Иванов, автор поэмы об Ивановском лагере, был в нем еще в конце 1919 года, когда лагерем заведовал раздражавший его сервильностью «матрос Найчук». Отсутствие Иванова в весенних афишах, возможно, объясняется тем, что его (как героя его поэмы) отправляли из Москвы, но он не погиб (как герой в одном варианте биографии), а возвратился (как в другом). В Крюковской колонии выступали также Анастасия Ивановна Виттенберг, Елизавета Николаевна Попова-Негинская, Михаил Иванович Петухов, Георгий Васильевич Семенов, Владимир Александрович Романов и Николай Евграфович Прохоров (в документе ошибочно Носакина и Алексей Алексеевич Балавенский).
В последние месяцы 1920 года были избраны новые — вместо, надеемся, освобожденных — заведующие кружком. А в январе 1921 года, как записывает Малиновский, в кружке «образовалась партия коммунистов», которая попыталась сместить его контрреволюционное руководство: «Общее собрание кружка было событием, нарушавшим однообразие лагерной жизни. Происходила борьба двух партий. <...> Коммунисты истратили на предвыборную агитацию 4000 руб. Внесли членский взнос за заключенных, которые и не думали быть членами кружка, для того, чтобы воспользоваться их голосами, но это не помогло. И в секциях руководителями, и в общем собрании членами комитета прошли не коммунисты. <...> Если исключить 40 подставных голосов, то окажется, что в кружке не более 20 коммунистов». Так, 21 января были избраны прежние руководители: «Изгоев (научная секция), Горчаков (библиотечная) и Хомзе (театральная). Хомзе — артистка. Членами комитета по избранию общего собрания — Лызлов, Шарый, Розанов и Арбузов». Лызлова переизбрали и председателем. Научной секцией должен был заведовать кадет Александр Соломонович Изгоев. Предположительно, членами комитета были меньшевик, в номенклатуре Ленина отнесенный к «мелкобуржуазному оппортунистическому элементу» Владимир Николаевич Розанов (племянник философа) и один из братьев Арбузовых: московский студент и артиллерист Георгий Михайлович или агроном Петр Михайлович. В январе Малиновский упоминает единомышленников Розанова: заключенного Левицкого и приходившего к нему и Розанову Б. С. Васильева. Владимира Осиповича Левицкого, младшего брата Мартова, также арестовали по делу «Тактического центра». Социал-демократа Бориса Степановича Васильева арестовали в Ростове-на-Дону в мае 1920 года, но его «арест» заключался не в лишении свободы, а в ее ограничении. В апреле 1921 года он также окажется в Ивановском лагере, а летом 1922 года, числясь в лагере, будет жить в городе. Также в комитет входил петербургский присяжный поверенный Лев Иванович Шарый.
Этот комитет руководил кружком несколько дней, поскольку коммунисты свергли избранное контрреволюционное руководство. Утверждая пролетарскую власть, коммунисты в полемическом раже, очевидно, незаметно для себя ее обличают. Собрав 100 подписей заключенных, они пожаловались коменданту на несправедливо малое представительство в просвещении лагеря: «В кружке засилие буржуазии в то время, как пролетариат составляет большинство заключенных». Волею коменданта вместо Горчакова, Шарого, Розанова и Арбузова были назначены Черепнин, Казначеев, Трубчинов и Ермолов. После чего «утвержденные» комендантом Лызлов «б. председатель кружка» и Изгоев отказались от должностей: «Из прежних членов комитета культурпросвет. кружка осталась только Хомзе, остальные ушли. Распоряжаются коммунисты».
Историю кружка заведовавший прежней научной секцией Изгоев с иронией и грустью вспоминал, как
Однажды в Ивановском лагере (в Москве) вне всякой зависимости от культурно-просветительного отдела управления лагерей создалось было оригинальное, действительно просветительное и довольно широко раскинувшееся учреждение. Просто в лагере подобралась группа образованных людей, которые не вынесли угнетающего ничегонеделания и создали недурную библиотеку, устроили преподавание кое-каких простейших предметов и чтение лекций по отдельным вопросам.
Кончилось дело так, как и можно было предполагать. В лагере оказалась группа коммунистов, посаженных за воровство и должностные преступления. Они увидели в деле просветительного кружка способ выправить свою карьеру. Атака была проведена с двух концов. С одной стороны, властям были посланы доносы, а с другой, при содействии администрации лагеря сделана попытка овладеть всем кружком и «взорвать» его изнутри. План увенчался успехом. Библиотека и весь кружок очутились в руках назначенных коммунистов, и, как мне говорили, последние привели всё дело к вожделенному концу. Лично этого фазиса работы кружка я уже не наблюдал, так как покинул Ивановский лагерь.
Красный террор в Москве: свидетельства очевидцев. М, 2013. С. 215
Малиновский называет новым председателем комитета коммуниста Черепнина. Псевдонимом А. А. Черепнин подписывал статьи о балете, в частности в московской «Театральной газете», Эдгар Александрович Нудель. В это время он пользовался взятым именем и в повседневной жизни. В балете Александр Александрович Черепнин ценил исключительно красоту танца и выступал против драматизации и превращения танца в пантомиму. Коммунистом журналист Нудель, по его словам, был и до ареста. Но предвзятый мемуарист записывает, что в партию он вступил в тюрьме. В биографической справке этот эпизод описан полнее. Нудель-Черепнин и писал коменданту о несправедливом засилье буржуазии. Знакомый с театральным миром, вероятно, он же и устроил раздачу контрамарок (членские взносы), чтобы получить поддержку зала. Председательствовал Черепнин несколько месяцев: «будучи председателем культпросвета и руководителем Научной секции организовал систематические утренние (для малограмотных) и вечерние общеобразовательные и профессиональные курсы при чем работал с присущей ему добросовестностью энергией и аккуратностью». В августе его как коммуниста отправили младшим надзирателем в Архангельский лагерь. Через год он вернулся и заведовал труппой Андроньевского лагеря, а в ноябре 1922 года устраивал октябрьский вечер в Покровском. Еще одним руководителем кружка стал по анкете беспартийный, известный адвокат конца 1920-х – 1930-х годов Сергей Константинович Казначеев. До ареста (причина его неизвестна) он служил в НКВД, делопроизводителем в отделе местного хозяйства (ФР393. Оп. 85. Д. 3072. Л. 1).
Театральная программа отставленного комитета, как и весной 1920 года, прежде всего отвлекала. Малиновский записывает, что в начале января 1921 года дважды — для членов кружка 8 января и для остальных 9-го — «ставили “Змейку" Рыжкова. Игра любительская. Все-таки развлечение». Постановка вызывающе игнорировала годовщину расстрела демонстрации. Любовная коллизия комедии при этом не только забавляла. Героиня, проницательная эмансипе, чтобы добиться согласия семьи жениха на брак, небрежно обольщает, а затем разоблачает его отца, дядю и деда. Старорежимно прогрессивная пьеса лишена классового конфликта. В ней прямота и решительность женщины нового времени контрастирует в пьесе с мужским лицемерием как консервативного, так и либерального направления. Классовое просвещение представлял сам Малиновский. Едва выйдя из карантина, в январе он прочитал лекцию в двух частях «Прошлое русского крестьянина». В феврале с переменой руководства, к досаде и недоумению Малиновского, театральные вечера были столь же обывательски беззаботными, как и комедия Виктора Рышкова (в дневнике Малиновского в фамилии неточность), на его вкус, менее изящными: «В прошлое воскресение было кабарэ, вчера снова. Спрашиваю <Казначеева>: «Какое отношение имеет к пролетарской культуре почти вся программа кабарэ? Ведь все эти номера легкого жанра. Это изнанка буржуазной культуры. Зачем это подносится теперь в пролетарском государстве? Буржуазный строй оставил громадные культурные богатства. Зачем же из этой сокровищницы берется не лучшее, вечное, ценное, а самое худшее? Смутился, сказал, что Комитет еще не успел наладить свою деятельность. Это было на прошлой неделе. А вчера снова кабарэ с программой такого же характера».
Изгоев, не видевший ивановское кабаре, еще раньше был на, возможно, похожем представлении в Андроньевском лагере, которое
Напоминало в ту пору еще блаженной памяти заведения Омона, конечно, приспособленное к тогдашней нашей бедности и первобытности жизни. Сальный водевильчик, сальные куплеты, сальные танцы и сальные шансонетки... Публика ржала от удовольствия, и должен заметить, что на этой платформе демократически сошлись и княгиня с проституткой, и старый генерал с юным красноармейцем.
Красный террор в Москве: свидетельства очевидцев. М, 2013. С. 212
О дальнейшей программе известно, что к 12 октября «театр обслуживается исключительно заключенными и работает хорошо. Концерты и спектакли еженедельно» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 170). В частности, заведовавший швейной мастерской Плинер «бывший закройщик. Плюгавенький, но юркий еврейчик. По-видимому, интеллигентный: выступал в кабаре с каким-то своим произведением». Вероятно, в концертах-кабаре участвовали имеющие сценический опыт Василий Петрович Емельянов и, возможно, вернувшаяся из Брестской больницы Итулина. В начале 1920 года в лагере были арестованные артисты Абрам Михайлович Шприц и София Ивановна (Яновна) Малиновская. За танцевальные номера мог отвечать председатель Черепнин — не только критик, но и постановщик балета. В 1919–1921 годах в постановках могли участвовать не попавшие в сохранившиеся афиши и отчеты артист и помощник режиссера «Летучей мыши» Михаил Федорович Ефремов (как минимум до декабря 1919 года он был в Ивановском лагере), педагог и музыкант Елизавета Владимировна Левшина-Кашперова (ее перевели в лагерь из Бутырской тюрьмы в октябре 1919 года), учительница музыки Нина Павловна Драницына (ее, арестованную под Петроградом, привезли в лагерь к ноябрю). Оформлять концерты и спектакли могли художник Сергей Евгеньевич Росоловский (в Ивановском лагере он был несколько месяцев до конца декабря 1919 года; в 1930-е годы работал художником в небольших театрах), а также Василий Иванович Лопатин (ученик киевской художественной школы и одесского художественного училища — «художник, чертежник, учитель рисования»).
Доклад Красного Креста в апреле 1921 года описывает все формы коллективного досуга политических заключенных, которые кроме увеселения направлены и к просвещению: «Для удовлетворения духовных потребностей заключенных есть культурно-просветительный кружок, общий для всех заключенных уголовных и политических. Своими силами заключенные устраивают спектакли и концерты изредка приезжают артисты с воли. Во главе кружка коммунист, но недавно в него вошли и другие элементы. Желательно устройство почаще концертов и спектаклей силами артистов. Есть особый зал для концертов-спектаклей со сценой. Ставились пьесы Островского, Чехова и др. Не хватает пьес для постановки, желательна помощь в этом отношении <...> по утрам для неграмотных обязательно посещение школы для ликвидации безграмотности они для этого освобождаются от работ. В школе не хватает учебников и учебных пособий, бумаги карандашей и пр. Кроме школьных занятий для желающих организованы силами самих заключенных вечерние курсы, лекции, происходящие по окончании работ: недавно был прочитан курс по истории русской культуры проф. Малиновским <...> читали лекции Левицкий, Изгоев и др. Сейчас идут так же лекции по политическому образованию, химии, физике, полиграфическое искусство (так — ЕН), число посетителей разное (бывало обычно человек 50–60, иногда меньше)». В разветвленном просвещении помимо кружка «в лагере существует культ-просвет-комиссия. Председатель комиссии — Александровский, б. директор гимназии», который, как записывает Малиновский 5 января, «уже пригласил меня прочитать несколько лекций». Возможно, что комиссия сосуществовала с кружком, поскольку среди его участников председатель комиссии не упоминается. Вероятно, это Михаил Иванович Александровский, преподававший в виленских гимназиях. Кроме него среди заключенных было несколько учителей. Часть по образованию (те, кто окончил учительские семинарии), часть также и по занятиям: Аким Семенович Артеменко, Анатолий Васильевич Виноградов, Марина Николаевна Баяндина, Иван Платонович Болдырев, Иван Степанович Бредкин, Мария Алексеевна Мещерская, Екатерина Михайловна Хижнякова, Евгений Дмитриевич Станиславлев и Онисим Архипович Новосильцев. Уроки могла давать и преподавательница иностранных языков Мария Андреевна Стецкая. Яркой фигурой, в том числе с педагогической стороны, была хиромантка и инженер-технолог Маргарита Павловна Вихман-Семашко, которая рассказывала об устроенной ею в Ташкенте школе грамотности.
Через несколько месяцев, возможно, по освобождении артистической части заключенных, представлений и лекций не было. В июне 1922 года — «культпросвет работа в стадии организации» (Ф. Р4042. Оп. 2. 11. Л. 194). Спектакли были только гастрольными. В июльском отчете 1922 года администрация сообщает, что «с марта по наст время никакой культурно-просветительной работы в лагере не было. Было лишь три спектакля которые ставила труппа из других лагерей. И только теперь приступают к означенной работе. Школа грамотности существует, но работа протекала нерегулярно с большими перерывами вследствие отсутствия дров. Библиотека и читальня имеются около 2000 томов. Посещение театра бесплатное, организуется своя труппа, случаем совместного посещения зрелищ заключенными и посторонней публикой не бывает. Комендант Мартынов, помощник по адм. части Лифшиц» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42). Упадок постановок в Ивановском лагере произошел во время одного из самых ярких сезонов — 1921–1922 годов — русского театра. Труппа, о которой предуведомлял комендант Мартынов, была организована, но возобновление спектаклей подрывало закрытость лагеря. Хотя комендант отчитывался в том, что театр бесплатный, средства для постановок были нужны, а в связи с переводом лагерей на самообеспечение это уже было делом исключительно администрации. Средства можно было собрать, продав билеты «посторонним», о чем в ноябре 1922 года кружок просит коменданта. Сначала Мартынов отказывается, объясняя, что «лагерь закрытый и посторонних на спектакли за деньги пускать недопустимо», и предлагает вместо билетов для свободных зрителей организовать буфет для заключенных, доход от которого пустить на театр. Буфет организован не был. Но коменданту приходилось отчитываться за просвещение заключенных, и он сам пишет в Управление лагерей доклад о спектаклях 6–7 ноября по случаю пятилетия революции, на которые были, к общему удовольствию, допущены родственники заключенных. Что играли по случаю пятилетия революции, не известно, но программа следующий ноябрьской годовщины сохранилась. О ней — ниже. Ссылаясь на благополучный опыт, Мартынов, мнением и стилем солидаризируясь с заключенными, предлагает: «Этот единственный пример войдет в основу карательной политики РСФСР <…> встреча произвела на самих заключенных самое отрадное впечатление <…> заключенные действительно чувствовали себя как бы дома среди окружающих родных. Ели допустить хотя бы раз в месяц на спектакли в лагерь тоже самое что было 6–7 октября, т е родных и знакомых то можно твердо сказать, что дело исправления заключенных и примирения их с создавшимся положением пошло бы быстрее. <…> прошу разрешить мне раз или два в месяц на устраиваемые в лагере спектакли допускать семейства их родственников и знакомых» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 3. Л. 178).
Билет в лагерный театр был ценен тем, что давал возможность для свидания. В этом случае, получив разрешение на проход в лагерь, родственники могли не смотреть представление. Подобные случаи были на концертах для заключенных в Новоспасском монастыре. Уполномоченный по московским лагерям, сторонник пенитенциарного гуманизма и поклонник театра Леонид Корнблит доклад завизировал: «15.11.22 согласен на допущение родственников». Через две недели из Управления местами заключения разослан циркуляр: «В отмену уполномоченного по Москве Корнблит о разрешении совместного присутствия на образовательных развлечениях родственников заключенных. <...> впредь строго руководствоваться при допущении свидания правилами. Доманьский» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 3. Лл. 170, 180). К этому времени Ивановский лагерь уже был закрыт. Казимир Янович Доманьский до весны 1923 года был помощником директора 1-го российского Реформатория. После проверки его уволили и отправили в распоряжение Ивано-Вознесенского губумзака.
В 1922 году закончилась гражданская война — но после победы над эксплуататорами коммунистическое общество не возникло. Утвердилось представление о том, что для перехода к нему требуется время. На переходный период было легализовано старорежимное право покупать и продавать. Это право — и обязанность — получили и переведенные на самообеспечение лагеря. Так же как экономические, были перелицованы и восстановлены прежние общественные и правовые отношения. Хотя с победой над эксплуатацией было устранено классовое угнетение — основная, как представлялось, причина преступности, — преступления продолжали совершаться. Хотя в декабре 1922 – начале января 1923 года в связи с окончанием войны московские концентрационные лагеря, военные учреждения для изоляции врагов, были закрыты, для части лагерей закрытие было переименованием: лагерь, в соответствии с принятым летом 1922 года Уголовном кодексом, становился колонией или исправительно-трудовым домом — уже не военным, а пенитенциарным учреждением. Поскольку эксплуатация, теоретическая основа преступлений, была побеждена, то объяснение преступлениям находилось в том, что трудящиеся совершали их по недомыслию и из-за сформировавшихся в результате угнетения представлений и привычек. Заключение выглядело уже не только наказанием. Оно давало возможность исправить нравственный дефект, вызвавший преступление. К окончанию наказания изоляцией человек должен был научиться жить трудовой жизнью. Новое пролетарское государство, как казалось, позволяло расширить применение идей дооктябрьского гуманизма. Для возвращения человека из изоляции предлагалось создать особые учреждения, в которых заключенный к концу наказания мог пользоваться некоторой свободой. Еще в 1918 году Наркомюст, где были собраны передовые, с дооктябрьским образованием правоведы, во временной инструкции «О лишении свободы, как мере наказания и порядке отбывания такового» перечислял «испытательные заведения для лиц, по отношению к которым имеются основания для послаблений режима или для досрочного освобождения». Подобные заведения организованы не были, но их по-прежнему считали необходимыми в этой группе правоведов. Еще до принятия Уголовного кодекса 5 апреля 1922 года Коллегия НКЮ РСФСР утвердила Положение о переходных исправительных домах. Они предназначались для заключенных из разрядов «образцовых» и «исправляющихся». Согласно прогрессивной системе наказания, заключенных после приговора зачисляли в начальный разряд. Отбывая наказание, в зависимости от поведения они переходили разряд «исправляющихся», а затем «образцовых». В этих разрядах разрешалось больше свиданий и допускались отпуска. В переходные дома должны были отправлять тех образцовых и исправляющихся заключенных, что отбыли большую часть срока и «отличились безукоризненным поведением, трудолюбием и успехами в школьных занятиях».
Таким переходным исправительным домом должен был стать известный благоустроенностью «хороший» Ивановский лагерь. 27 ноября 1922 года на совещании Принкуста и КустГУМЗа — отделов НКВД, ответственных за труд заключенных, — «было вынесено следующее постановление: существующие на всем пространстве Республики лагери принудработ, как непредусмотренные Уголовным кодексом с 1 декабря упразднить, преобразовав их в соответствии с указанием УК в места лишения свободы носящие, в зависимости от их ближайшего назначения названия исправдомов, трудовых сельско-хозяйственных или ремесленных колоний и переходных исправдомов. В частности в отношении московских лагерей за исключением Ивановского и Ордынского лагерей, которые преобразуются в переходные исправдомы, поручить управлению вновь образованного объединения обсудить вопрос о целесообразности их дальнейшего существования. Доклад представить 29 сего ноября» (Ф. Р4042. Оп. 9. Д. 1. Л. 6 об.). Согласно этому решению, в первых числах декабря Ивановский лагерь стал Ивановским исправдомом. На совещании тех же лагерных администраторов, состоявшемся в декабре не позднее восьмого числа, постановлено часть «имущества ликвидируемых лагерей: Ново-Песковского, Покровского и Владыкинского» передать для «дооборудования Ивановского и Ордынского исправдомов». В более строгих документах он назывался полнее — Ивановский исправительно-трудовой дом. Самое полное название на бланках включало слово «переходный», но Ивановским переходным исправительно-трудовым домом он назывался последовательно только в планах и докладах о работе учебно-воспитательной части, которая в «переходном» учреждении должна была стать главной. 25 декабря «комендант Бывшего Ивановского лагеря Мартынов Иван Егорович увольняется от должности <...> ввиду упразднения таковой», и с 13 декабря 1922 года первым начальником исправительного дома назначен представлявший новых «исправительных» администраторов Михаил Иванович Егоров, служивший (заведовал подотделом) в Пенитенциарном отделе Главумзака (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 22. Л. 62). С 13 до 25 декабря Мартынов, очевидно, сдавал дела.

Ивановский монастырь. 1924 год. Фото: pastvu.com
После устройства исправдома к январю 1923 года «состав заключенных сильно переменился. Многие попали под амнистию 5-й годовщины, <…> некоторые были отправлены в Таганскую тюрьму как следственные, и часть была отправлена в тюрьму для несовершеннолетних по их возрасту». Заключенные, сменившие освобожденных и переведенных, ни исправляющимися, ни образцовыми не были, поэтому переходным исправдом только назывался: «Положение о переходных исправительных домах предусматривает устройство чтений, бесед и лекций ежедневно, а по праздничным дням концерты, спектакли и другие развлечения. Но Ивановский исправдом в 1923 году будет переживать переходный период, состав заключенных в нем еще не вполне соответствует тому, какой он должен быть в переходных исправительных домах. В частности сейчас насчитывается несколько десятков неграмотных и малограмотных». В связи с этим культурное просвещение должно в первую очередь «предотвратить возможность рецидива безграмотности» (План культпросвет работы на 1923 года. Составлен в начале января: на документе виза «Дябло 17.1.23» Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 34. Л. 5, 18). Оставшихся в заключении «врагов» в конце 1922 – начале 1923 года переводили на Соловецкие острова в единственный оставшийся лагерь, к которому и перешло «особое назначение». Части контрреволюционеров Ивановского лагеря удалось остаться в просветительском кружке исправдома.
В декабре 1920 года был создан Институт советского права. В феврале 1921 года заключенный Малиновский, прочитав сообщение о создании института в «Известиях ВЦИК», рассуждает в дневнике: «Я мог бы собрать материалы об Ивановском концентрационном лагере, если бы мне дано было соответствующее поручение от Института Советского права» (Архив «Мемориала». Ф. 2. Оп. 8. Д. 97; Известия ВЦИК 13.02.1921). К весне 1922 года Малиновский уже вовлечен в разработку пенитенциарных мер. 24 августа он пишет коменданту: «В ответ на Ваш личный запрос о моих работах по обследованию Ивановского лагеря считаю долгом сообщить, что в мае м-це прошлого года ин-т сов права с ведома и согласия ГУПР и ВЧК поручил мне научное обследование Ивановского лагеря по составленной мною программе. Выполнением этого поручения я был занят в течение трех мес. пребывания в лагере и двух м-цев по осв из лагеря. Рез-том моих занятий явилась довольно большая работа (около 7 1/2 печатных листов), которые в настоящее время находятся в Институте сов. права. Заключ. И. Малиновский» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 39. Л. 332). Исследование потребовалось самому коменданту, от которого требуют описания его учреждения, поэтому он пишет в «мосуправ принудработ: представляя при сем записку заключ в/мне лагеря професс. И А Малиновского, прошу для продолжения работ по обследованию вверенного мне лагеря испросить от ин-та сов права незаконченные труды Малиновского по обследованию лагеря». Освобождение, которое отмечает «заключенный», было разрешением жить в городе, но не означало, что его заключение окончено. Летом 1923 года Малиновский снова в лагере, но по-прежнему занят методологией просвещения заключенных. Начальник исправдома в это время регулярно получает просьбы, подобные этой: «Прошу командировать заключенного Малиновского в культ-просветительский отдел ГУМЗ для участия в составлении положения о внешкольных занятиях в местах заключения 4 сего июня». К осени Малиновский снова покидает Ивановский монастырь, поскольку записку о нем правовед Всеволод Дябло, ответственный за просвещение заключенных, адресует в Ордынское отделение Ивановского лагеря: «Просим командировать заключенного Малиновского в Главумзк во вторник 11 сентября» и «...Малиновского в культ просвет подотд. Главумзака для дачи указаний по составлению пенитенциарного учебника. 2 окт». Подробнее об отделениях исмправдома и возможной причине переезда — ниже. (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 39. Л. 330, 332; Оп. 4. Д. 3. Л. 124, 125, 127). Малиновский еще несколько лет будет участвовать в устройстве просвещения заключенных. В октябре 1925 года он представляет 1-ую Тюремную больницу (Бутырскую, на Лесной улице) на совещании руководителей учебно-воспитательных частей московских колоний и исправительных домов (Ф.Р4042. Оп. 4. Д. 71. Л. 21). К маю 1925 года Малиновский закончил труд «Руководство исправительного-трудового дела», который, отметив некоторую отсталость автора, одобрил «инспектор ГУМЗ по культ просвету» правовед Юлий Бехтерев: «К числу минусов содержания <…> незнакомство <…> с изданными в развитие ИТК уставам службы по местам заключения и инструкциями по по уч восп и раб частям мз да невыдержанность употребляемой им терминологии. Так несовершеннолетних правонарушителей он иногда называет малолетними преступниками, а лишение свободы — наказанием, что противоречит терминологии принятой нашим советским законодательством. Ясно что плюсы <…> Значительно превышают минусы <…> может быть использовано в качестве пособия для студентов факультетов советского права» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 100. Л. 295).
К январю 1923 года под руководством Дябло был подготовлен проект «пенитенциарных курсов для наблюдателей Ивановского исправительного дома». Можно предположить, что преподавать на них мог и правовед Малиновский. Проект курсов основан на «мировом опыте школ тюремного персонала в частности Японском». Передовая японская пенитенциарная практика и до 1917 года входила русские учебники тюремного дела. Примерная программа курса выглядела так: «История, География 10 часов. Советская конституция 5 часов. Советское строительство 5 часов. Уголовное право, уголовный процесс 5 час. Судопроизводство 2 часа. НКВД и ГУМЗ 2 часа. Положение о местах заключения 6 часов. Всего 50 часов и еще 50 часов на повторение и испытания». Дябло предлагал увеличить на 5 часов советскую конституцию и советское строительство и добавить для уголовного права еще 10 часов. (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 34. Л. 6). Сохранившиеся в архиве лагеря доклады стажеров-ревизоров могли сделать слушатели этих курсов.
Культурно-просветительский кружок, существовавший в лагере, остался и в исправительном доме, но его устройство переменилось. В Исправдоме кружок был не массовым обществом, формой самоорганизации заключенных, а частью администрации, в которой помимо сотрудников числились и заключенные. В январе 1923 года из 18 членов — сотрудников кружка вольных было четверо, а в марте шестеро. Они заведовали школами для неграмотных и малограмотных, библиотекой: «В отношении дополнительной литературы для них читает учитель Моравский — лекции по природоведению, заключенный профессор Малиновский — историю культуры (общей и русской)».
В декабре 1922 года, первого числа на «Вечере памяти Толстого» профессор читал лекцию и отрывки из произведений. 27 декабря прошел «Вечер памяти декабристов. Заключенный Малиновский прочитал доклад “Военно-дворянская революция 1825 года". После доклада пьеса того же заключенного Малиновского “В солдатской школе" из времен декабристов. Отделение чтение стихотворений декабристов Рылеева и Одоевского и посвященных декабристам Пушкина и Некрасова. <...> сцена из “Русских женщин" Некрасова: жена декабриста и Сибирский губернатор». Через год, 27 декабря 1923 года, удачный «литературно-драматический вечер» из тех же двух отделений с немного измененными названиями пройдет еще раз. Сцену и стихи в 1923 году, как в 1922-м, исполняли члены драматической студии. В «Солдатской школе» солдаты рассказывали о том, как плоха жизнь в других частях, где начальники не декабристы, и о крестьянской нищете. После чего офицер декабрист, читая составленный декабристами «Православный катехизис», объясняет, что самодержавие противоречит закону божьему. Тема и подробный рассказ о декабристах среди прочего внутренне демонстрировали условность классового разделения интересов. (Эту же декабристскую программу показывали и в других местах, в частности в Новинской тюрьме — женском исправдоме еще и в 1926 году).
С января по март 1923 года прошло «17 вечеров из них 6 по поводу годовщины исторических событий». 9 января вечер посвятили 45-летию смерти поэта Н. А. Некрасова. 22 января 1923 года продолжился курс истории революции: «Вечер памяти 9 января. Доклад заключенного Малиновского "Начало рабочей революции", пьеса того же заключенного Малиновского "Кровавое Воскресенье" в трех действиях». Оба устроеных Малиновским вечера противопоставлены несерьезной рышковской «Змейке». В подробном варианте программы вечера памяти: «1."Начало конца" доклад заключенного Малиновского (рабочее движение в начале 20 века, Гапоновские рабочие организации в Петрограде, План шествия рабочих с петицией к царю. Расстрел рабочих войсками. Впечатление произведенное расстрелом в России и за границей, значение события 9 января в истории революции). 2."Гапоновщина" сцены из истории рабочего движения в России заключенного Малиновского. Сцена 1. заседание отдела общества русских рабочих, сцена 2 в штабе военного округа, сцена 3 после расстрела. Участвуют Ключников, Николаи, Полянский, Буров, Сухарев, Овсянников, Харламов, Васильев, Баринов, Шведе, Елисеева и др. Режиссер Ключников, Администратор Николаи, Сценарий Фомичев» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 34. Л. 11).
К концу 1922 – началу 1923 года в лагере значительная часть заключенных уже не представляла эксплуататорские классы, а имела рабоче-крестьянское происхождение. Иллюстрированные драмой лекции должны были быть понятнее десяткам неграмотных и малограмотных. Это проявилось, в частности, в том, как изменились названия в «вечере памяти». Если в «Начало конца» и «Гапоновщина» видны и метафора и обобщение, то «доклад», «сцены из истории» – прямее и понятнее. Собственно драматические постановки лагерного театра были все той же «изнанкой буржуазной культуры», в использовании которой Малиновский упрекал коммунистов в 1921 году.
Веселый спектакль, в отличие от «живой газеты», позволял рассчитывать на выручку от продажи билетов. И прежде лекций первого декабря 1922 года был устроен «Вечер смеха платный для образования фонда культпросвета». Через день после «Вечера смеха», третьего декабря, очевидно, чтобы привлечь на «Коммунистку», было обещано — «после дивертисмент». При этом если Вечер смеха укреплял культпросвет материально, то эта пьеса — идеологически и административно. Написал «Коммунистку» один из основателей ВЧК Михаил Кедров. Подобно войне, которую вела ВЧК, в пьесе и борьба за государство трудящихся продолжается на невидимом фронте. Героиня товарищ Анна, коммунистка, преданная рабочим сотрудница отдела образования, противостоит мещанству сестры, бюрократизму сыто живущего Совнархоза и лицемерию двоюродного брата — военрука, бывшего офицера, который, прикрывшись красной звездой, ждет падения большевиков.
Второго февраля была представлена «"На конспиративной квартире" комедия С. Ан-ского из быта революционеров при старом режиме», а шестнадцатого — «"Сокровище" комедия в 3 д. Киреева-Гатчинского из времен после пролетарской революции 1917 года». Фонда культпросвета не хватило надолго, и для его пополнения снова играли комедию. Заведующий просвещением объяснял, что «удалось поставить два спектакля «На конспиративной квартире» и «Сокровище». На последний спектакль пришлось одолжить денег у заключенной Соловьевой (зав прод. лавкой) на парики и грим, а затем после спектакля, когда мы выручили с билетов, отдали ей». «Сокровище» фонд пополнило, при том что спектакль можно было смотреть и бесплатно: «На сей раз за отсутствием другого выхода пришлось сделать с разрешения начальника Исправдома немного из первых мест платными. Как оказалось мы выручили 58 мил. уплатили долги и еще осталось в кассе. <...> По окончания спектакля были танцы (с разрешения начальника исправдома). Вообще все остались довольными. 20 февраля 1923 года зав учебно-воспитательной частью Драч» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 34. Л. 18). Двадцатиоднолетний студент 1-го МГУ Семен Львович Драч в 1922 году как «обученный санитар» работал в Центральной (Бутырской) больнице. Вероятно, с декабря он и заведует в исправдоме просвещением (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 31. Л. 74).
Предполагалось, что комедии продолжают курс истории борьбы с царизмом, но несмотря на то, что афиша сообщала о революционной идейности постановок, жанр комедии, укрепляя фонд культпросвета, идеологические установки скорее подрывает. Название «На конспиративной квартире» обещает гораздо более революционную пьесу, чем та, где герои подпольщики оказываются в водевильных положениях. Только в роль друга в шкафу играет нелегальная библиотека. Автор пьесы — исследователь и пропагандист местечковой культуры, избирался в Учредительное собрание от партии эсеров, а с 1919 года жил в Варшаве. Спектакль имел успех, поскольку 25 марта его сыграли еще раз.
Киреев-Гатчинский написал несколько фарсов, скетчей и комедий-буфф. Если в «Коммунистке» есть драматический отзвук близкой гражданской войны, то его «Сокровище» нэпмански благодушно. Бывшие паразиты, хотя в домашнем кругу, но гордятся своим аристократизмом и одобряют брак только с равными по происхождению. При этом они почти голодают и без прислуги беспомощны в быту. Оторвавшийся от аристократических корней и ушедший в народ герой возвращается к прозябающей семье с женой крестьянкой. Нуждающейся аристократии приходится снизойти до богатой — в данном случае зерном и сливочным маслом — невесты. В прежней комедии она была бы купчихой и и фабрикантшей. Водевильная коллизия классово переосмысливается, утверждая союз физического труда и образования. Примером и принуждением крестьянка приобщает семью мужа к работе. Отношение к ней меняется от «… это сокровище» до «Сокровище вы мое». Комедия основана на той же идее, которой в своих проспектах администраторы лагерного управления объясняли создание лагерей принудительного труда. Как герои «Сокровища», незнакомые с мозолистой работой интеллигенты приобретают в лагерях навыки и охоту к труду и приобщаются к пролетариату. Но комедийные положения выглядели убедительнее идеологии. Поэтому позднее история театра отмечала «безыдейность» популярного в начале 1920-х годов «Сокровища» (Тамашин Л. Г. Советская драматургия в годы гражданской войны. М., 1961. С. 220–221).
Воспитательная часть следующего юбилейного вечера вышла скомканной: 22 февраля был прочитан «Доклад Малиновского «Красная армия и диктатура пролетариата» по поводу 5 годовщины Красной армии», но «специально написанная для этого дня пьеса заключенного Малиновского «Живая красноармейская газета» в 3 д. не могла быть поставлена в следствие внезапного перевода нескольких заключенных – исполнителей в другие места заключения». «Красноармейскую газету» в трех действиях скорее всего, к досаде Малиновского и к удовольствию публики, заменили: «После доклада два водевиля “Бедный Федя" и “Конец Драмы"». «"Бедного Федю" (Скетч. Сюжет заимствован)» написала Надежда Яковлевна Гольдберг. В 1910-х годах комедии она подписывала Амба. Увеселительная миниатюра — гвоздь сезона 1916 года. В 1916–1917 годах в Москве «по прежнему пользуется успехом и служит приманкой "Бедный Федя"» в известном раскрепощенностью постановок Современном / Новом театре П. В. Кохманского, а «в театре «Мозайка» <…> в скетче "Бедный Федя" хорош г. Демерт, исполняющий центральную роль» (Театр и Искусство. 1916. № 12. Обявл.; Рампа и жизнь. 1916. №4. С. 1 обявл.; №7 С. 12; №44. С. 10; 1917. № 25. объявл). Скетч должен был и увеселять, и наставлять. Чтобы «излечить от пьянства», жена и врач убеждают героя Федю в том, что он умер. Возможно, учитывая экстренную замену спектакля, скетч был гастролью Замоскворецкого театра, где несколькими неделями раньше, 6 февраля, его играли во втором отделении бенефиса Чиркина. Бенефициант Василий Александрович Чиркин и поставил водевиль, и сыграл в нем главную роль (Зрелища. 1923. №23 (6–12 фев.). С. 39).
Переводы, в частности «Дракулы» Стокера, Надежда Гольдберг подписывала «Нина Сандрова». Интерес к Стокеру также связывает ее с просвещением в Ивановском лагере. Мать сестер Хомзе Елена, вероятно, была автором (Б. Ольшеври) романа «Вампиры. Из семейной хроники графов Дракула-Карди». Предысторию «Дракулы» Стокера она написала для своих дочерей, одна из которых в 1920–1921 годах играла на ивановской сцене, а другая в это же время, возможно, работала в ивановском околодке (Б. Ольшеври «Вампиры», предполагаемый автор Молчанова-Хомзе //"Книжное обозрение". 30.04.1993).
Автор «Конца драмы» Бентовин в гражданскую войну писал революционные пьесы для армейской труппы, в частности, «Царь-провокатор (Николай I и декабристы)» в начале 1920-х обличал коммерческий нэпманский театр (Бентовин Б. Петербургские письма // Театр и музыка. 1922. №9. С. 126–127). Но в этой его миниатюре если и есть назидательность, то житейская. Водевилем в отчете она названа случайно или по инерции: в мелодраматической сценке на трех страницах муж разоблачает измену и убивает жену.
Четвертого марта представлены водевиль «“Верочкин секрет" и пьеса “Кого из двух" соч. Духа Банки. В заключение Суд над героями пьесы “Кого из двух" инсценировка заключенного Малиновского». Автор «Секрета» Иван Кононович Лисенко-Коныч на рубеже веков написал нескольких популярных беззаботных комедий. Без морали веселила и эта полная водевильных недоразумений пьеса, где героиня (Верочка), не говоря жениху, представила того своей семье подругой в мужской одежде.
Во втором отделении профессор решил отчасти замаскировать свои образовательные намерения. Полное название пьесы длиннее и продолжается пояснением «Трагический эпизод из жизни нормандских рыцарей». Усеченный же вариант выглядит обманчиво — водевильным. Иллюзию веселости усиливает переиначенный псевдоним Дух Банко, которым подписывал пьесы Давид Иосифович Гликман. Вернувшийся из крестового похода рыцарь, которого считали погибшим, мстит жене и ее возлюбленному. Жена должна выбрать, «кого из двух» ей спасти: сына или возлюбленного. Она делает отчаянный выбор, который зрители не успевают увидеть, поскольку действие прерывается. Мелодрама в исторической обстановке завершается насмешкой с обнажением приема. Выясняется, что финал актерам и режиссеру не известен, а автора нет, поэтому администрация предлагает решить зрителям, чем завершить пьесу. Дальше дело, очевидно, рассматривал «Суд над героями...». В 1917 года миниатюру играли в Интимном театре Б. С. Неволина: «В остроумной вещице Духа Панко <так> «Кого из двух?» очень мила вновь вступившая в труппу Д. С. Чарова» (Рампа и жизнь. 1917. №22. С. 11, 22)
В планах воспитания было отмечено также, что в «понедельник 12 марта в день 5-й годовщины свержения самодержавия революционным пролетариатом состоится лекция на тему Историческое значение этого события, «Гнев народа» мелодекламация исп. Маврос и Николаи, «Любовь шута» трагический этюд» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 34. Л. 11, 18, 20, 27, 30). Хотя свержение самодержавия ценилось группой собранных в кружке заключенных, к этому времени чествование Февраля уже выглядело скорее контрреволюционно. Неуместность названия была вовремя замечена. «Свержение самодержавия» было понижено в исторической табели и, как сообщает отчет, 13 марта был прочитан «доклад заключенного Карасика «Классовая борьба и революция в России» по поводу 6 годовщины февральского переворота 1917 года». О перевороте, вероятно, рассказывал анархист Александр Моисеевич Карасик (см. прил). Поэтическая часть вечера не изменилась и были представлены: «"Гнев народа"» мелодекламация заключенного Мавроса дЭККЕ исп. Автор, Аккомпонир. Ал. Николаи. “Любовь шута" Драматический этюд в 1 д. Чаргонина». Чаргонин — самый известный псевдонимом Александра Александровича Гончаренко, актера, автора инсценировок, театрального режиссера, члена правления мастерской Мейерхольда и «мастера разбойничьего кино» (РНБ; Массанов; «Вся Москва»; Гращенкова И. Н. Кино Серебряного века: рус. кинематограф 10-х годов и Кинематограф Русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов. М., 2005. С. 89, 287). Картина буржуазной изнанки дополняла доклад о февральском перевороте. Мелодраматический этюд, в котором можно увидеть сценарий немой фильмы, воспроизводит коллизию популярной пьесы Л. Андреева «Тот, кто получает пощечины»: осаждаемый докучными поклонницами романтический клоун-аристократ стреляется (у Андреева принимает яд), когда его возлюбленная гимнастка (наездница у Андреева) уходит в содержанки к дворянину с позорным прошлым. Осенью 1917 года во фронтовом театре «Малахов с глубоким чувством и большим мастерством передал трагедию души благородного Шута» (Рампа и жизнь. М., 1917. №29-30 С. 8). Об авторе и исполнителях «Гнева народа» речь пойдет ниже.
10 марта водевили «Я умер» и «Баронесса Фекла» игрались без назидательного Заключения. Первый написал комедиограф и беллетрист, «отец русского фарса» Иван Ильич Мясницкий (Барышев). В «фарсе в одном действии» заснувшего героя принимают за мертвого, и у его жены начинается роман с его другом. «Оживший» герой, простив жену и друга, провозглашает: «Я умер». В 1916 году фронтовая постановка «"Я умер" Мясницкого вызывала бурю восторга». (Театр и Искусство (Спб.) 1911 №25;1916 №33. С. 663; Рампа и жизнь. М.,1916. №25. С. 6).
Более классовую «Феклу» написал Симон Федорович Сабуров, крупный антрепренер рубежа веков, устроитель нескольких эстрадных театров, в частности «Эрмитажа». Аристократ фон дер Коппель-Поппель женится на кухарке Фекле, чтобы получить выигравший 200 тысяч лотерейный билет, который он сам выдал в счет жалованья. После венчания выясняется, что кухарка, уже начавшая обретать высокомерие баронессы, билет продала. В 1915 году «Феклу» играли в театре Лира в Новосокольниках, а в 1916-м — в Московском театре Миниатюр в бенефис режиссера И. Пельцера (Театральная Газета. М., 1915 №21 С.5; Рампа и жизнь. 1916. №50. объявл.). Осенью 1922 года с 5 по 8 октября поставленные И. А. Зиновьевым «Федя» и «Фекла» составляли программу вечера «Театра веселых настроений» на Трубной площади (Зрелища. М., 1922. №6 (3-9 окт.) С. 43 ). Возможно, что в Ивановском монастыре спектакли были показаны артистами этой труппы.
Программа вечера 18 марта сочетала просветительскую часть и развлекательно- разоблачительную. Малиновский выступал с докладом «Парижская коммуна», за которым следовала пьеса того же автора, что и «Любовь шута», но подписанная другим его псевдонимом: «Могила счастья / Палач души» драма в 4 д. Александровича». Занимательная пьеса из жизни аристократов сочетает мелодраму и детектив. Любовная интрига «мастера разбойничьего кино» развивается на фоне расследования убийств, которые сейчас назывались бы серийными. В болезни сознания, которая сделала героя убийцей, классовый взгляд увидел бы физическое вырождение паразитов и эксплуататоров. В 1914 году рецензент писал из Николаева: «В труппе Гранкина шла новая пьеса — «Могила счастья», <...> и на афишах печаталась какая-то патетическая статья «от автора»: «Мы переживаем тяжелые и кошмарные дни. Жизнь своя и чужая обесценилась до последнего предела. Из каждого газетного листа на вас смотрят печальные загадочные глаза уходящих из жизни» итд., итд». (Театр и Искусство 1914 №24. С. 354 )
25 марта после «Конспиративной квартиры» играли «Тихую обитель». Осенью ее сыграют еще раз. В сообщении об осеннем спектакле постановка описывается подробнее: «“Тихая обитель» пьеса в одном акте Михайлова. Антирелигиозная». Оправдывающая постановку антирелигиозность «Обители» также романтической природы. После того как в «глухом, далеком монастыре» переночевала «особа женского пола», монахи из него уходят, ощутив интерес к миру. Вероятно, это одно из первых произведений Виктора Михайлова, известного в 1970-х годах романами о шпионах. Можно предположить, что описывавший работу государственной безопасности автор в это время и с ней и познакомился.
В спектакле, показанном через день после «Квартиры» и «Обители», заключенные не участвовали. 27 марта был дан «“Недомерок" комедия в 3 д. спектакль группы московских артистов по приглашению литературно драматического кружка». В конце 1917 – начале 1918 года популярная пьеса Дарио Никкодeми (Dario Niccodemi) шла в московском Драматическом театре в саду «Эрмитаж». Ю. Соболев предуведомлял зрителей, что «это типичная итальянская комедия. Без грации и без тонкости французской, но с хорошими ролями и весьма банальной интригой» (Рампа и жизнь (М.). 1917. № 47–48. объявл.; № 49–50. С. 8; 1918. №1. объявл.; Театральная газета. М., № 50. объявл.). В Ивановском монастыре ее, вероятно, играли артисты театра Комедия (быв. Корша). Перевод «Недомерка» (La piccina) сохранился в архиве режиссера театра Иосифа Донатова. Представление в лагере могло быть московской премьерой постановки. В 1922 году она шла в Петрограде в Александринском театре, а в 1923 году в театре «быв. Корша». (РГАЛИ. Ф. 2715. Оп. 1. ед. хр. 328; Выготский Л. С. ПСС-15 Т. 1. М., 2015. С. 551, 637). В воспитательной программе постановка пьесы из римской жизни объяснялась, вероятно, тем, что пятнадцатилетняя девочка — Недомерок — дитя улицы, простонародной искренностью и доброжелательностью разоблачает жеманство буржуазных нравов, а ее дружба с просвещающими ее инженером и учителем демонстрирует союз народа и передовой интеллигенции.
Если в лекциях видны заключенные-слушатели, то драматические постановки говорят также о вкусах и настроении их участников. В 1920 году ставилась степенная бытовая драма, мелодрама и оперетта. Заложники ВЧК выбирали устоявшиеся, даже архаичные театральные формы, закостенелость которых противостояла разрушенному миропорядку. В 1917 году нижегородский корреспондент сообщал о необычном впечатлении: «Неожиданно огромный интерес возбудили две мелодрамы: «Сестра Тереза» (Тереза – г-жа Борегар) и «Две сиротки» (г-жи Чарова и Борегар), они прошли по нескольку раз с большим успехом. По-видимому публика нуждается в мелодраме. Н. С-ын» (Театр и Искусство 1917. №15. С. 244). Иллюзию устойчивости создавали постановки классических и поэтому хорошо знакомых произведений. Несмотря на очевидную сложность постановок, выбираются пьесы с большим количеством персонажей и участников. Подготовка подобной постановки была ценнее представления. Программа спектаклей в 1922–1923 годах показывает, как переменилось в это время умонастроение заключенных. Отступление коммунизма в 1922 году ощущалось как возвращение дооктябрьского порядка, частью которого был театр миниатюр 1910-х годов. Эстрадные постановки декадентских мелодрам, пародий и сжатых в скетчи водевилей построены на обнажении и разрушении утративших живость действия драматических форм. В выборе репертуара есть доля глухой эстетической фронды. Еще в начале 1923 года по местам заключения был разослан циркуляр «о желательности <...> ознаменования столетия со дня рождения <…> Островского <…> постановкой пьес Островского. О принятых мерах сообщить в Главумзак» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 34. Л. 39). Несмотря на предписание, в этом году Островского в Ивановском театре не играли. Любительский театр заключенных уже был не общим занятием, а домашней труппой миниатюр. Он транслировал тот же культурный импульс, что и театр за пределами монастыря. Последний уже не только пародировал в «Кривом Джимми» театр 19 века. В завершившемся недавно сезоне крупнейшие режиссеры XX века поставили программные спектакли: Мейерхольд — «Великодушного Рогоносца» и «Нору», Таиров — «Федру», Вахтангов — «Турандот» и «Гадибук», Михаил Чехов сыграл Хлестакова в постановке Станиславского («Золотой сезон» советского театра 1921/1922 годов. СПб. 2016. С. 4). Чуткий выбор ивановского культпросвета проявился в том, что автор «Конспиративной квартиры» Ан-ский написал и трагедию «Дибук».
В апреле–мае 1923 года представления стали давать реже или они совсем прекратились. Это было связано с переменами в администрации и представлении об исправительном доме. Дававшего много свободы заключенным заведующего культпросветом дискредитировали. В мае новый начальник Исправдома докладывал, что «Драч не соответствует назначению <...> не обладает ни 3-х летним педагогическим стажем, ни подготовкой <...> нет личной инициативы <…> чисто бюрократический характер». Начальник человеколюбиво не настаивал на увольнении: «Чтобы не лишать его заработка, в котором он может нуждается предлагаю его назначить учителем для малограмотных». 26 апреля его перевели заведовать культпросветом в Новоспасский исправдом. Сменил Драча Николай Никанорович Почечуев. За назначением последовал скандал. Записка «Быв. секретаря секции Ивановского пер. исправдома заключенного Мавроса д'Эссе» — известного по прежней афише — обличает новых руководителей. 9 июня он пишет в управление о том, что «начальник исправдома и зав культпросвет частью губят дело культпросвета». В июне 1923 года после тревожного доклада бумаги культпросвета подписывает Б. Ольховский (Борис Маркович Ольховский, «образование высшее юридическое <...> сведений о судимости не имеется»). До этого Ольховский заведовал воспитанием в Ордынской колонии (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 66. Л. 23; Ф. Р393. Оп. 85. Д. 5431). В Ивановский его назначили еще 11 апреля, но очевидно, несмотря на приказ, он либо вовсе не работал, либо работал совсем недолго и был утвержден протеже коменданта Почечуев. С утверждением Ольховского в должности возобновляются спектакли и музыкальные вечера, звучание которых скорее всего становится лучше. С куплетами и мелодекламацией в культпросвете справлялись, но еще не отставленный Драч жаловался в конце февраля 1923 года: «Режиссер Большого театра хотел нам сделать бесплатный концерт своими силами, но у нас рояль не в исправности. Я несколько раз надоедал в Главумзаке, чтобы прислали из какого нибудь места лишения свободы для исправления его мастера. И в результате был прислан какой-то заключенный инженер из Таганской тюрьмы, который пришел и только определил дефекты в нем, а исправить не исправил, так как он не в состоянии был. И так мы до сих пор с разбитым роялем, о чем я глубоко сожалею» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 34. Л. 18). От поисков настройщика осталась «телефонограмма от 16 января 1923. Начальникам Сокольнического исправдома, Таганской тюрьмы, Новоспасского Исправдома и Ордынского исправдома из Главного управления местами заключения. <..> предлагает срочно сообщить не содержатся ли <…> заключенные без строгой изоляции знакомые с ремонтом музыкальных инструментов (Рояль) Дябло» (Ф. Р4042. Оп. 4. 36. Л. 1). Новый рояль получила новая администрация. Губивший дело культпросвета комендант хлопочет об инструменте, который украшал вечера Морозовых в особняке в Трехсвятительском переулке: «1 мая учебно-воспитательной частью был взят во временное пользование от Коменданта здания бывшего Покровского лагеря рояль принадлежащий НКВД. До сего времени рояль был крайне необходим для устройства концертов и находился в стенах вверенного мне исправдома, между тем новый комендант настойчиво требует таковой вернуть. Ввиду того, что рояль крайне необходим прошу разрешить оставить таковой впредь до выяснения вопроса с НКВД» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 34. Л. 37).
Пущенная при прежнем руководстве на самотек репертуарная политика с лета уже была под присмотром. В архивном деле отложились просьбы, отправленные комендантом в ГУМЗ с просьбами разрешить постановку выбранной пьесы. Поскольку сведений об отказе нет, можно предположить, что представления состоялись. С этого времени учебно-воспитательная часть занята не мягкотелым просвещением, а идейно-воспитательной работой. Ставятся драмы, а не скетчи и фарсы, пусть даже с участием подпольщиков. Вечер 6 июля продолжал зимнюю программу Малиновского и был посвящен истории борьбы с царизмом. В первом отделении давали «Однажды вечером» драматический этюд в 2-х картинах из жизни политических ссыльных в царское время Леонида Лесненко». Революционный элемент в этюде включается в карамазовскую коллизию падения, жертвы и спасения. Его героиня на пороге замужества соглашается прийти на ужин к сладострастному генералу, но не ради роскоши жизни, а чтобы тот не мешал уже раскрытому плану побега из каземата товарища Владимира. В этом смешении нравственных метаний и революционной жертвенности героиня подсыпает яд генералу и принимает его сама. Яд одновременно и служит надежности побега, и, вероятно, очищает от позора ужина с генералом.
Актер и режиссер Леонид Васильевич Южанский (Лесненко) написал несколько драматических произведений, но известна публикация только этого этюда— в Муроме в 1918 или 1919 году. В 1920-х годах Южанский играл и ставил в выступавшей в московских рабочих и районных клубах труппе (Фомина Ю. Весенний шум // интернет журнал «Зеленая лампа» (jgreenlamp.narod.ru/fomina2.htm).
За идейным спектаклем следовало «концертное отделение (декламация, мелодекламация, пение, танцы, рассказы и куплеты)». С этой же, вероятно, программой о моральном падении и жертве ивановские артисты через несколько дней выступали в другом бывшем лагере. Видимо, устраивая это выступление, «учебно-воспитательная часть Ивановского Исправдома просит разрешить постановку спектакля-концерта в Ордынском отделении Ивановского исправдома 11 сего июля». В отделении в это время содержались преимущественно женщины.
В июле был поставлен еще один спектакль, в котором в центре сюжета женщина и старик — «драма в 3 д. В. Свенцицкого "Симфония смерти"». В пьесе «Смерть», по которой поставлен спектакль, от старого, поглощенного идеей торжества смерти композитора бежит и погибает от удара молнии молодая жена. Написавший драму священник в это время находился в ссылке за обличение обновленчества. Дидактические достоинства драмы о страхе, можно предположить, состояли в том, что буря и молния в финале демонстрировали смерть старого буржуазного мира и грозу нового. Какой бы ни была постановка, проверявший лагерь 26 июля 1923 года ревизор счел выбор пьес неудачным: «Лекции читаются крайне редко. Спектакли ставятся достаточно часто и их имеют возможность посещать все заключенные, причем те из заключенных, которые платят за вход получают лучшие места в первых рядах, а остальные места занимаются бесплатными зрителями. Репертуар в художественном и идейном отношении оставляет желать много лучшего» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 13. Л. 32). Очевидно, пожеланиям отвечала демократическая классика. 30 июля поставили Чехова. Его именем разрешены были увеселительные «Медведь» и «Предложение». А короткая драма «На большой дороге» рассказывала о вреде пьянства, страсти и дворянства. К четвертому сентября поставили «Поруганного» Невежина, чье патриархальное морализаторство еще не сочли буржуазным. В Москве 1919 году пьеса шла в Дмитровском театре (Вестник театра 1919. №13, 16). В этой драме темный закостенелый купец противопоставлен просвещенному и проницательному капиталисту, который в пролетарском государстве считался эксплуататором, а не человеком труда, но, вероятно, для классового просвещения важнее была картина разложения купеческой семьи, честные члены которой слабовольны, властные — темны, умные — лицемерны, а человечные — полубезумны.
Следующие спектакли играли в ноябре, и выбор постановок внешне соответствовал «октябрьской годовщине». Седьмого ноября шла «Революционная свадьба» Софуса Михаэлиса в переводе Е. <Елизаветы Петровны?> Шиловской. Пьеса была одобрена для просвещения пролетариата и только что, в 1922 году, издана в серии «Библиотека Губполитпросвета МОНО». В пьесе со вторым названием «Жизнь за любовь» мелодраматический романтизм соединяется с революционным. Равнодушный к смерти революционер устраивает побег едва обвенчавшемуся роялисту и, верный принципам, добивается того, чтобы его самого в назидание солдатам казнили за измену. Обвенчанная с высокопарным, но малодушным роялистом героиня, чтобы спасти мужа, обольстила революционера. К утру роялистка, своей волей разделив с подлинно благородным устроителем побега ложе, разделяет и идеалы революции. В апреле 1917 года Божена Витвицкая описывала постановку в петроградском Театре Сабурова: «Игра на злободневность довольно слабая. <...> в «Революционной свадьбе» <...> много такого сумбура, которого и не рассказать и много пикантных подробностей, любому фарсу в пору. <...> Очень курьезно откликаются на "свободу" некоторые из наших театров» (Театр и Искусство. 1917 №16 С. 254). В программе ивановского вечера «пьесе предшествует доклад нач исправтруддома т. Белова» — о нем ниже.
После нескольких все более развлекательных спектаклей к годовщине Октября поставили драму. 16 ноября в программе культпросвета «“Осиное гнездо" пьеса в 1 акте из эпохи гражданской войны Брониковского». Георгий Брониковский для политического просвещения написал несколько драматических произведений в стихах и прозе. Революционную миниатюру «Осиное гнездо» (второе название «Генерал Барклаев») в 1920 году издал политотдел 10-й стрелковой дивизии. Подобно роялистам в «Революционной свадьбе», в единственном акте «Гнезда» деморализованные и беспомощные белогвардейцы терпят амурное, нравственное, а вслед за тем и военное поражение. Олицетворяющего белогвардейскую жестокость генерала, чья фамилия отсылает к герою царистских войн, убивает собственный сын. В финале спектакля, скорее всего, звучал призыв «Приветствуйте свободу трудящихся от гнета и насилия». В пьесе за этим призывом следует сцена метаний утратившего представление о правом и неправом деле белогвардейца. В воспитании пролетарского сознания, для которого пьеса и назначалась, личная драма с попыткой застрелиться выглядела лишней, и в обоих отсмотренных экземплярах финальная сцена вычеркнута (РГБИ). Но вопрос об отношении интеллигенции к революции, очевидно, был близок образованной части ивановских заключенных. И в «Осином гнезде», и в «Коммунистке», и в «Сокровище» благополучные в дооктябрьской жизни образованные герои или обретают опору, разделив интересы пролетариата, или их явно ждет скорая деградация. Общий замысел вечера виден в диалоге сюжетов и названий пьес, составивших его отделения. Во втором показывали оптимистичную «Тихую обитель», о которой говорилось выше, где герои физически выходят из привычного мира.
Лекции Малиновского служили образованию заключенных, постановки должны были воспитывать, концерты же, в которых участвовали свободные артисты, должны были просвещать художественно. При составлении программы учитывались возможности зрительского восприятия. Выстукивание мелодии руками, виртуозная игра на народных гармони и балалайке привлекали, впечатляя не столько музыкальностью, сколько ловкостью исполнения. Классические певцы и пианисты знакомили с достижениями допролетарской культуры, а артисты театра Мейерхольда, студии Веры Майи представляли передовое искусство для трудящихся.
13 августа в исправительном доме выступали «Тенор лир. Акимов, балет — Далина, чечетка на пальцах — Коновалов, музыкальные эксцентрики на гармониках — Власовы, рояль — В. Чернецкая, балет — Гуманков, пение — лир сопрано Трофимова. Комические рассказы артист ХХ, у рояля Бескина. Цены левые боковые 25 руб. 1,2 ряд 15 руб, 3–7 10 руб, входные 3 руб. начало ровно в 9. администратор Николаи». Программа культработы обещала также «концерт 3 сентября с участием артистов московских театров: Румянцева, Афанасьевой, Лясс, Муромцевой, Чернецкой, Фрешкопф, Бескиной и других».
10 декабря давали «концерт при участии артистов МГАХТ, Государственной оперы, свободных художников и других артистов». Афиша концерта такова: «Артистка Госоперы Е. С. Серно-Соловьевич (Сегаль), Сергей Большой — балалайка, артистка ГАХТ Субботина — пение, артист Рик — солона <так> виоль-зе дуро, артист Госоперы Горницын — пение, артист ГАХТ Алферов П. П. — пение, Краминская (русские песни под аккомпанемент), Львов М. Л. — пение, свободный художник Качкачев С. М. — рояль и другие. Администратор Соммерфельд». В 1916 году Краминская участвовала в одном концерте вместе с Елизаветой Левшиной-Кашперовой, к 1921 году освобожденной из Ивановского лагеря. Подробнее об приглашенных участниках концертов рассказано в особом приложении.
Заканчивали год, напомним, декабристские вечера Малиновского. Мы не располагаем сведениями для сколько-нибудь убедительной реконструкции личности большинства заключенных — участников концертов. С мелодекламацией выступал Владимир Федорович Маврос д’Эссе. Участие в культурно-воспитательной деятельности соответствовало склонностям Владимира Федоровича. До 1917 года в его военной биографии, видимо, были педагогические занятия. В 1911 году он издал брошюру об устройстве патриотического воспитания, по английскому, видимо скаутскому, образцу. О духе его «Гнева народа» отчасти можно судить по приказу, которым он увещевал подчиненных ему городовых: «...Когда пожелает вернуться на службу, зимой в стужу, заставлю издохнуть с голоду, но не возьму обратно. Такой кандидат в хулиганы еще до увольнения будет сфотографирован как изменник и предатель в моем сыскном отделении и опозорен на все российское царство. Рожа негодяя до Архангельска дойдет и нигде ему не пристроиться на службу». Аккомпанировал врач Альфред Федорович Николаи.


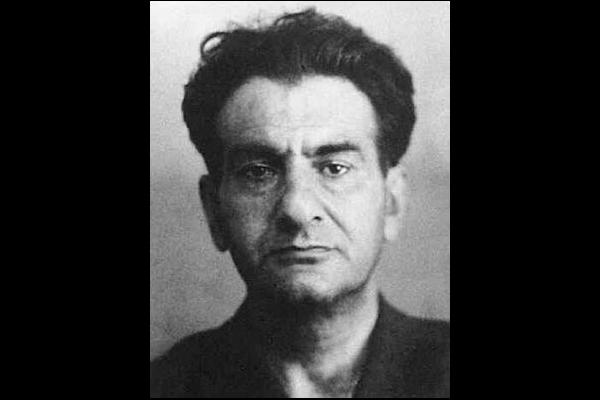




К июлю 1923 года секретарем (но не заведующим) культпросвета стал Виктор Яковлевич Трахтенберг. В дооктябрьской жизни — присяжный поверенный. В Ивановский исправдом его перевели в апреле 1923 года из Сретенской тюрьмы. Осведомитель оперчасти сообщал, что «гр. Трохтенберг <так> Виктор Яковлевич, присужденный к 5 годам заключения со строгой изоляцией ежедневно бывает дома у своей жены по адресу Тверская ул 66 кв 25 и свободно гуляет по городу, а также получил место для занятий в канцелярии тюрьмы. Кроме того, будучи подследственным часто приходил домой в сопровождении милиции и ежедневно вел переговоры в канцелярии арестного дома и женой. Название тюрьмы неизвестное. Настоящее сообщается для сведения. 5. 7. 1923». Администрация Ивановского исправдома оправдывалась тем, что Трахтенберг «осужден на 4 года без строгой изоляции», «находится в разряде исправляющихся» и получил только четыре отпуска, один раз «с разрешения РК <разгрузочной комиссии> на двое суток», но во избежание худшего постановила «прекратить всякую командировку в город» (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 4. Л 325–328).
В начале 1924 года показательному исправдому потребовались новые артисты. 20 февраля 1924 года Управление местами заключения спрашивало, «каких заключенных можно перевести из Сокольнического исправдома в Ивановский исправдом для усиления состава драмкружка». При отборе актеров следовало «принимать во внимание социальное положение, разряд, судимость и род преступления» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 73 Л. 10). Театрально-концертная программа Ивановского Культпросвета за следующий 1924 год не разыскана, но заведовал учебно-воспитательной частью в сентябре 1924 года и до, как минимум, октября 1925 года режиссер Герман Эдуардович Ферман.



Вероятно, он сменил Ольховского после 7 апреля 1924 года, когда того назначили заведовать воспитанием в Новоспасском исправдоме (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 66 Л. 23). В феврале 1925 года в Ивановском монастыре поставили «Женитьбу» Гоголя. Ивановскую постановку также расчитывали показать в 1-м женском исправдоме (Новинской тюрьме) и Трудовом доме для Несовершеннолетних на Шаболовке (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 108. Л. 8).
Режиссер Ферман в 1923 году был консультантом, а в 1926–1928 годах инспектором воспитательной части ГУМЗ. В отчетах он среди прочего осуждал жестокие наказания (карцер и лишение горячей пищи) несовершеннолетних и хлопотал об устройстве быта учителей. Как немец, в 1942 году Ферман отправлен в Богословлаг, где ставил спектакли в ансамбле БАЗстроя НКВД. Умер он там же 1946 году (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 6. Л. 22; Д. 71. Л. 3; Д. 98. Л. 267; Ваганова И. Б. Архив Г. Э. Фермана // Записки Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. Вып. 2. СПб., 1999. С. 135–141; Ферман Герман Эдуардович (1894) // проект «Открытый список». ru.openlist.wiki).
Склонный, как и любой другой, к преувеличению отчет учебно-воспитательной части за 1924–1925 годы (с октября по октябрь) перечисляет пункты обширной образовательной программы: «Школьная работа, Библиотека и читальня, Кружковая работа, 1. Политкружки, 2. Литературный, 3. Драматический 4. Лекционное бюро, 5. Физкультура, 6. Физико-математический, 7. Английский язык, 8. Шахматный кружок, 9. Хоровой, 10. Музыкальный, 11. Музей КНИГИ» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 17. Л. 47–49). В последнем пункте, видимо, отмечено монастырское книжное собрание.
Мищенко
Весенний перерыв в культурном просвещении был вызван переменой в управлении лагерем. За формальным закрытием лагеря и открытием переходного исправительного дома последовала организация уже не временного, а постоянного места заключения. В это время монастырь полностью освободили от монахинь. В 1922 году несколько организаций, как сообщает история монастыря, требовали выселить из монастыря «лиц монашествующего звания» (История монастыря в советский период. ioannpredtecha.ru/2014/11/06/istoriya-monastyrya-v-sovetskij-period). Были ли они выселены в это время, прямо не сообщается. К июлю 1923 года кельи от монахинь освободили, поскольку в это время ревизор, сетуя, что «окарауливание зданий затруднительно», объясняет, что «во дворе находятся церковь и часовня не находящиеся в ведении исправдома». Очевидно, что он говорит о надвратной часовне и главном храме. Не упомянутые бывшие больничные кельи и Елизаветинская церковь, очевидно, в введении исправдома уже находятся. Описаниями исправдома мы не располагаем, и поэтому кем и чем они были заняты, не известно. Там могли быть не только камеры заключенных, но и мастерские, и квартиры сотрудников. Последнее наиболее вероятно, поскольку в эту часть монастыря был особый вход.
К лету 1923 года исправительная часть монастыря стала почти мужской. 16 июня 1923 года в нем «всего 7 женщин» и упомянута «камера женщин», а 26 июля комиссия постановила «вывести <… > всех содержащихся там женщин.» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 13. Лл. 28, 33). (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 13. Л. 28). В квартирах причта, бывшем женском отделении лагеря, заключенных к осени 1924 года уже некоторое время не было. В отчете о расходах за 1923–1924 бюджетный год уже упомянут «двухэтажный каменный корпус №3 — квартиры надзора» (Ф. Р4042. Оп. 5. Д. 25. Л. 3). С этого времени женщины, числящиеся в Ивановском исправдоме, находились в бывшем Ордынском лагере, который с 31 марта до 1 сентября 1923 года был Ордынским отделением Ивановского исправдома. (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 22. Л. 71, 105). С конца 1922 года до 23 февраля 1924 года отделением Ивановского исправдома также была сельскохозяйственная колония «Воскресенское-Троицкое» под Подольском. История этих мест заключения рассказана отдельно. Согласно исправительно-трудовому кодексу, режим в колонии был менее строгим, чем в исправительном доме. Подмосковные колонии стали отделениями московских исправтруддомов. Подобное устройство предполагало возможность менять условия жизни исправляющегося заключенного, не меняя учреждения. В переходном исправдоме условия были формально еще мягче, чем в колонии, но переходность Ивановского исправдома оставалась намерением.
Переходность учреждения кроме идеологических и культурных оснований включала и хозяйственные. Особое место заключения не должна обременять необходимость зарабатывать на свое содержание. Поэтому комиссия НКВД, НКФина и Рабкрина 8 марта 1923 постановила, что «быв. Ивановский лагерь переименованный в Исправдом, как место заключения легкого переходного типа, единственное на всю республику и предназначенное быть показательным – “образцовым" принять <...> на госснабжение» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 26 Л. 18). Описанный выше расцвет ивановской сцены, связан, вероятно, и с тем, что идеологи образцового учреждения для заключенных выделяли средства для приглашения артистов.
Устраивать образцовое учреждение назначили работавшего до этого в нескольких тюрьмах Андрея Яковлевича Мищенко. Егоров переведен заведовать женским Ордынским отделением исправдома.
Новый начальник Мищенко родился в 1877 году Зенькове Полтавской губернии. Окончил 6 классов гражданской гимназии и фельдшерскую школу (лекарский помощник). После курсов зубных техников до 1904 года работал в земстве. Затем в Полтавской городской управе конторщиком по хозяйству и в казармах на электрической станции. С 1918 года Мищенко служит следователем в ЧК Курской губернии. К сентябрю 1919 года он уже начальник Сокольнической тюрьмы. О работе Мищенко, вероятно в 1918 году, известно также из его обмолвки в рекомендации упомянутого выше Почечуева: «лично мне известного, как зав культпросветом Волынской и Николаевской губерний». Сокольнической тюрьмой Мищенко заведовал до ноября 1920 года. Вероятно, был уволен после скандала, поскольку к августу 1921 года он только делопроизводитель в Карательном отделе Наркомюста. 31 числа его назначают в Таганскую тюрьму помощником начальника, а уже 26 января 1922 года выносят благодарность «начальнику Таганской тюрьмы т. Мищенко доставившему в ночь пожара заключенных для очищения здания» Центрального карательного отдела. 18 мая 1923 года «нач. Таг. тюрьмы Мищенко переводится на должность начальника Ивановского исправдома». (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 34. Л. 20; Оп. 8. Д. 22. Л. 19, 38 об., 77 об Д. 298. Л. 30; Оп. 12. Д. 6. Л. 1–3).
Против нового руководителя выступила не только культурная оппозиция, но и партийная. Благодаря конфликту с секретарем партячейки сохранились описания административного и бытового уклада этого времени, в которых пролетарский начальник выглядит патриархальным барином: самовластным, распущенным, но не слишком жестоким. Секретарь партячейки описывает новое правление:
«С момента назначения начальником <...> г-на Мищенко наступила новая эпоха. <...> Деятельность Мищенко определялась или личным интересом или интересом тех переведенных из Таганки заключенных, с которыми он связан. <...> переведено всего около 60 чел. <...> 10 человек занявших привилегированное положение по денежной части закупки и прибыльными производственными работами». Среди безобразий перечислены злоупотребления при закупке теса и ремонте и употребление «беззастенчивой площадной брани».
Главной иллюстрацией административных манер в докладе служило описание благоустройства территории: «Факты же таковы: перевозка мусора в пределах исправдома производилась на полоке, в который впрягались и подталкивали заключенные, в то время как на лошади разъезжала жена Мищенко. Работа производилась на каменистой почве, <...> усеянная битым стеклом, причем заключенные за отсутствием обуви работали босиком и только после отказа из выйти на работу до предоставления им обуви им были выданы лапти и для перевозки мусора предоставлена лошадь. Заключенных объявивших это требование Мищенко посадил в карцер». Среди безобразий отмечены и гуманные: «стали допускать свидания во внеурочное время», а «тех, кто ремонтировал квартиру ему, Мищенко отпустил в город». Административную распущенность дополняла бытовая: «Из Ордынского отделения Ивановского Исправдома были затребованы для работ по уборке несколько женщин и вот двух из них Мищенко настиг у себя в квартире на чердаке облапил, стал целовать и делать гнусные предложения». Проявления «необузданной грубости» начальника требуют «предания его суду». К докладу прилагалась жалоба ордынских заключенных Корнблиту на столько же распущенного начальника Ордынского отделения тов. Балахновского, который сменил там Егорова. Жалоба приведена в истории Ордынского лагеря. Отчеты вызванных докладом и жалобами комиссий рассказывают о старорежимном быте при Мищенко: «Июля 16 дня 1923 <...> иконы и предметы культа в квартирах сотрудников <...> Старший помощник с семьей из трех человек занимает 4 комнаты. Семья воспитательницы Шведе из 4 чел ютятся в одной проходной комнате. <...> В камере заключенных женщин обнаружен спрятавшийся при входе комиссии заключ. Султан-Гирей. Камеры круглые сутки не закрываются, помимо внутренних замков, внутри имеются еще крючки. Баня 1 раз в 1 1/2 мес. <...> Заключенные за хоз работы ничего не получают. <...> Продукты отпущены на 248 заключ. Фактически на довольствии 43 заключ. <...> Пекаря работая несколько месяцев и не получая никакого жалования объявили голодовку. Комиссия нашла их изолированными и голодающими второй день. <...> часть камер переполнены другие почти пустуют. <...> Уборные в антисанитарном состоянии.
<...> 18. 07. 23. Комиссия постановила при приемке исправдома нынешним начальником т Мищенко исправдом находился в хаотическом состоянии. Это состояние полнейшего хаоса и неразберихи относится особенно к имуществу ликвидационной комиссии бывш КустГУМЗа (учреждение заведовало мастерскими мест заключения — ЕН).
<...>Отметить факт приведения во внешний порядок исправдома начальником Мищенко, напр. вывоз больших залежей мусора и навоза, оборудование уборных, приведение в порядок складов и помещений исправдома».
<...> Все распоряжения <...>Мищенко единолично.<...> Комиссия постановила обратить внимание Главумзака на существующую в Ивановском исправдоме нездоровую атмосферу по состоянию интриг. <...> Предложить начальнику<...> камеры запирать. Помещения распределять более справедливо, убрать запоры и крючки изнутри камер, искоренить картежную игру. Заключенных распределять более равномерно по камерам. Взять на учет имущество и пр <...> выделить рабочие книжки. И пр<...> баню раз в месяц.
<...> Заключение членов комиссии проверявших материал по обвинению начальника Ивановского исправдома А. Я. Мищенко секретарем ячейки РКП <...> хищений, злоупотреблений, причастность к самовольной отлучке не установлены. Грубое и непристойное отношение можно считать установленным. Факт покушения на изнасилование отрицается даже самими заключенными, а бесцеремонное ухаживание волне правдоподобно <...> Отношение с секретарем ячейки признать обостренными. Контр-революционного в деятельности Мищенко ничего не обнаружено».
Еще одна проверка, проведенная 26 июля 1923 года, перечисляет хозяйственные упущения: вольные женщины с заказами, рабочие без трудовых книжек. Следующая ремарка дает представление о действовавшем в лагере экономическом укладе. Ревизор отмечает, что частных заказчиков мало, но приносят они часто и много. Не обвиняя прямо, он указывает на теневую негоцию, когда узкий круг знакомых администрации заказчиков перепродает изделия исправдомовских мастерских.
С прятавшимся в женской камере черкесским князем Сагатом Аслановичем Султан-Гирееем была знакома Мария Федоровна Якушкина (Татаринова): «Он был строен, тонок, очень красив, беззаботно весел и смел, даже безрассуден». В отчете о проверках отложилась «жалоба прокурору от заключенного Ивановского исправдома Ибрагима Махамеджановича Учарова <...> 13 июля я объявляю голодовку». Учаров жаловался на «несправедливое отношение», его заставляли мыть полы, а когда он писал заявления, его отправляли в карцер, что лишало права на отпуск. К заявлению от 14.07.23 были приложены ходатайства о предоставлении отпуска. Через две недели, 2 августа 1923 года, комиссия в Ордынском отделении Ивановского Исправдома находит грязное белье: «Начальник Ивановского исправдома Мищенко отдает свое личное белье в стирку в прачешную Ордынского лагеря (в обиходе учреждение оставалось лагерем — ЕН), причем оно хранится как в грязном так и в чистом виде в камере заключенного (так) Громовой». Через три недели новая проверка отмечает уклад, близкий по духу идее «переходного» учреждения. И «21 августа не все заключенные в 12 часов ночи были в своих камерах, некоторые блуждали по соседним камерам. Некоторые камеры были найдены закрытыми изнутри. В одной из камер, где помещаются женщины несмотря на поздний час происходила стряпня на примусе <...> в некоторых камерах, где помещаются более зажиточные заключенные, много всякого хлама, так что создается впечатление, что люди живут здесь не в заключении а у себя дома со всем комфортом <...> освещение имеется не во всех камерах».
В этот же день как каравший, так и дававший много воли Мищенко увольняется «согласно поданного заявления». Неделю учреждением заведовал старший помощник начальника Яков Иванович Маурин. 28 августа его сменил Иван Дмитриевич Белов, Маурин же, впоследствии видный начальник Лефортовской тюрьмы, в конце ноября стал начальником Саратовской тюрьмы — губисправдома (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 13. Л. 25, 28-31, 33, 35, 37, 44, 48, 53; Оп. 8. Д. 22. Л.91, 104, 105; Д. 50. Л. 41, 105-107; Д. 296. Л. 152, 156, 158, 222).
Когда ноябре 1923 года на праздничном представлении выступает новый начальник, прежний — Мищенко — хлопочет об учреждении должности заведующего хозяйством в Воскресенско-Троицкой колонии — отделении Ивановского исправдома и о том, чтобы ее занять. Месяц с 19 января до 22 февраля 1924 года он заведует работами в Моструддоме на Шаболовке, а к весне 1925 года — колонией Скобеево-Воробьево (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 296. Л. 151; 381. Л. 88; Оп. 12. Д. 6. Л. 4-6, 22). Это место заключения описано в особой справке. В это время оно числится отделением Сокольнического исправдома, начальником которого, напомним, Мищенко был в 1919–1920 годах. В апреле 1925 года он заведует работами во 2-м московском женском исправдоме, занимавшем Новоспасский монастырь. При этом жил Мищенко по-прежнему в монастыре Ивановском, досаждая его администрации, которая сигнализирует прокурору Бауманского района: «Гр. Мищенко проживает в ограде монастыря и пользуется нагревательными приборами. <...> Хищническое отношение к жилищу <...> приводит к порче проводов и невозможности окарауливать» — и просит решить вопрос «о предоставлении жилой площади Мищенко» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 382. Л. 373, 378). В конце 1920 годов Мищенко, возможно, был арестован, поскольку в апреле 1927 года его лишили избирательных прав (Ф. А5248. Оп. 7. Д. 134).
Вопреки расчету, исправляющихся заключенных, для которых открывался переходный дом, не было и переходность осталась декларацией. Далекая от пенитенциарных теорий часть администраторов вместо этого непонятного учреждения полуоткрытого типа предлагала сделать обычную тюрьму. 28 июня комиссия указывает, что это вполне соответствовало и устройству монастырских помещений, поскольку «по своему местоположению и расположению корпусов Ивановский исправдом очень удобен для устройства в нем закрытого исправдома». Вероятно, самовластный Мищенко и формально также поддерживал идею «переходности» своего учреждения. Благожелательно относившиеся к его работе ревизоры 26 июля 1923 снова отмечают, что «бывший Ивановский монастырь вполне может быть приспособлен под переходный исправдом». (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 13. Лл. 33, 83). Комиссия одновременно подтверждает, что Ивановский исправдом должен оставаться переходным и то, что таким к этому времени он не был. В августе–сентябре 1923 года предполагалось провести «перегрупировку» заключенных московских тюрем, чтобы они своими разрядами соответствовали правилам — «режиму» учреждений. Приказ №150 от 21 августа 1923 года подтверждает, что отправляются в «Ивановский исправдом (переходный) исключительно заключенные отбывшие уже часть наказания в других местах заключения и состоящие в разрядах исправляющихся и образцовом. Как правило женщин заключенных в Ивановском исправдоме не должно быть» (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 4. Л. 271). Устройство переходных учреждений в Москве не ограничивалось Ивановским монастырем. В декабре 1923 года также переходным назывался Новоспасский исправдом. Ивановский продолжит называться переходным до декабря 1924 года, когда он снова будет преобразован. Положение исправдома отразило название его стенгазеты «На грани переходной» (СПбГТБ ОРиРК. Ф.45. П.1. Ед. хр. 22).
Деревотруд
Можно предположить, что программной идеей сменившего Мищенко тов. Белова стала организация трудового воспитания. Заключенные должны были приобщаться к ценностям государства трудящихся не только сценическим словом, но и делом. Работа, подобно театру, должны была стать образцовой. Воспитательное воздействие на заключенных усилили, «организуя при Ивановском переходном исправтруддоме показательную столярную мастерскую». В январе 1924 года для устройства мастерской в исправдом привезли оборудование — «старые станки, пилы» фабрики Деревотруд б. Горлина, которая находилась «по Ямскому полю, 28», там до октября были склады торгового дома «Горлин и сыновья». 15 февраля уже рапортовали о том, что идет организация показательного производства (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 114. Л. 1-5, 10). Предприятия, которые открывались государственными учреждениями в начале НЭПа, часто были своего рода концессией. Учреждение для устройства выгодного предприятия заключало договор с частником,: инженером или администратором, нередко бывшим хозяином национализированного предприятия, с тем чтобы он, получая часть прибыли, организовал производство. Подобным образом были устроены мастерские в нескольких исправительных домах. Ни одна сторона в итоге не получала того, на что рассчитывала. Для организации столярной мастерской Ивановский исправдом и ГУМЗ заключили договор с тов. Коломейцевым и Гункером (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 198. Л. 4). Александр Коломейцев и Ренгольд Гункер в 1923 году владели мастерской «Мебель для всех комнат».
В первой половине 1924 года появляется портновская мастерская. Предположительно, в ней раньше работали монахини, и ее появление в отчетах косвенно подтверждает их выселение в конце 1923 – начале 1924 года. Отмеченные выше в отчетах швейная и портняжная мастерская, вероятно, были частью лагерного подсобного хозяйства, а в 1924 году портновская мастерская выглядит относительно крупным производством, работавшим на заказ. Летом 1924 года выяснилось, что коммерческой устройство не было связано с работой собственно мастерской; «с 19 по 22 июня <...> проверка портновской мастерской <…> все работы на 99% выполнялась частными лицами, артелями, квартирниками <…> матерьялы не приходовались. <...> Белов заявил, что плохо разбирался как неспециалист в вопросах покроя». Осенью мастерскую закрыли и постановили «11 октября ввиду ликвидации швейной мастерской <...> передать оборудование Новинскому женскому исправдому». 17 швейных машин передавали в распоряжение Новинской тюрьмы как минимум до января 1925 года. Ревизор отмечает экономический беспорядок в кондитерской пекарне и лавке, «которыми заведует Филиппов, сам у себя покупая». Разорительной была и работа «столярной мастерской, которая пострадала от договора с Коломийцем <так> и Гункером» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 114. Лл. 102, 103, 113; Д. 198. 14). Делали в исправдоме также гуталин и патроны. Возил гуталин, хлеб и патроны грузовик «системы Бенц», купленный в октябре 1924 года за 708 рублей у Новоспасского исправдома. Продавец был недоволен, поскольку выставлял счет на 1116 руб. 56 коп. и до 1927 года пытался получить остальное. Ивановский отписывался тем, что «несомненно цена была преувеличена» и «ремонт вызвал расход в две с лишним тысячи рублей» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 543. Л. 44).
Помимо заключенных и вольнонаемных в монастыре работали приговоренные к принудительным работам — принудработники. 20 июня 1924 дня в Ивановском переходном исправдоме «занято работами 135 и около 60 принудработников». (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 114. Л. 92). Принудработники скорее всего были заняты не в мастерских, а на подсобных работах: ремонтировали или убирали, поскольку работу, требующую минимальной квалификации и ответственности, им старались не поручать (см. Очерк истории лагерей).
Итоги исправительно-производственного партнерства сохранились в докладе ревизора, проверявшего исправдом с 22 по 29 декабря 1924 года.
В столярной мастерской «нагрузка большая, результаты ничтожны» — убытки, гуталиновая мастерская — прибыль 10%, а заключенных работало всего 1–3, а этого, отмечает ревизор, мало. Хлебопекарное отдельное предприятие, в котором работает 30 человек, из них 6 вольных, также принесло убытки, «кондитерские изделия — убыток». В портновской прибыль 10% — «не велика». Патронная делала учебные патроны. Ее прибыль — 597 руб (34%) — весьма удовлетворительна, но в рублях она в 3 раза меньше, чем у портновской мастерской, и в 2 раза меньше, чем у гуталиновой. В итоге при значительных оборотах — 100 000 рублей — производственная деятельность не достигла результатов (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 18. Л. 3-6).
Допустившего беспорядки тов. Белова против обыкновения не перевели на другую должность, а уволили «со службы по Главному управлению <местами заключения>» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 380. Л. 9). Сменивший его 1 декабря 1924 года Яков Васильевич Есипов 10 января 1925 года доложил, что «производственная часть была принята с задолжностью 33 000 руб, каковая была допущена вследствие полного отсутствия оборотных средств», что в ящичной мастерской 1 вольнонаемный на 3 заключенных, а в столярной мастерской 12 вольнонаемных и 1 заключенный с обучением 8 месяцев. В ящичной обучение длилось 2 месяца. Есипов отчитался об «аннулировании договора с тов Коломейцевым и Гункером с переходом мастерских в ведение исправдома», сокращении вольнонаемных мастеров — «уволено вольнонаемных 29 и предлагается к увольнению 10» — и учреждении второй смены. Гункер остался заведовать ящичной мастерской. (Р4042. Оп. 3. Д. 198. Лл. 4, 19; Д. 382. Л. 55). Эти меры мыслились не устранением непорядка, а были частью идейно-хозяйственной реорганизации. С 18 декабря Ивановский монастырь стал называться 1-ой Московской фабрично-трудовой колонией с переходным исправительно-трудовым отделением. В результате было упразднен не сам передовой переходный исправдом, поскольку Ивановский им не стал, а идея такого учреждения. Уступкой сторонникам пенитенциарного гуманизма стало открытие переходного отделения. Громоздкое уточнение об отделении в названии осталось только на бланках и в текущих документах регулярно опускалось. С 26 июня по 16 октября 1925 года «переходным исправительно-трудовым отделением» Ивановской колонии была колония в Авдотьине-Тихвинском, которая одновременно была 1-м Российским Реформаторием (подробнее об этом месте заключения в отдельной справке и в Очерке). В первой половине 1925 года отделение, вероятно, формально существовало и в самом монастыре, но если оно и было, то в названии оно занимало больше места, чем в самом учреждении. В марте 1926 года «переходное отделение особо не выделено; число зачисленных в него заключенных крайне незначительно (6-7 чел.)». Незначительное число столь же незначительно лишенных свободы описывает другой отчет этого времени: «При исправдоме имеется переходное отделение со свободным режимом для заключенных, отбывших часть срока лишения свободы и переведенных для испытания. <...> В день посещения <1.04.1926> числилось 9 человек» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 32а. Л. 1; Д. 38. Л. 129).
В результате в том числе малоуспешной деятельности небольших мастерских убедительнее звучали аргументы тех администраторов, кто считал, что заключенные должны становиться рабочими. Перемена состояла в том, что Ивановский стал не обычным — непереходным — исправительным домом, а колонией. В отличие от исправительного дома, который был местом вразумления и просвещения, колония предполагала предприятие, на котором работают заключенные. Устройство подобных фабрик или заводов основано на том представлении, что труд неизбежно исправляет и также неизбежно приносит доход. После ликвидации в конце 1922 года московских лагерей колониями стали те из них, что были открыты на кирпичных заводах в Крюкове и Лианозове. Подробнее об этом в Очерке истории лагерей. В названиях колонии, в отличие от домов, были не исправительно-, а фабрично-трудовыми. Это показывало, что они не учреждения, а предприятия. Поэтому же «в связи с реорганизацией <...> (приказ №313 от 18.12. 1925) должность начальника переименовывается в должность директора» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 73. Л. 4). Предприятие в Ивановском монастыре так же, как ранее исправдом, должно было стать образцовым. Номерная часть названия «1-я» означала, что колония передовая, а не одна из ряда подобных. К этому времени уже существовали несколько колоний, в том числе две упомянутые фабрично-трудовые в Крюкове и Лианозове. Ни у одной из них не было номерной части названия. На современный взгляд они не были географически московскими, но находившаяся под Подольском колония «Воскресенское-Троицкое» до 1922 года называлась «1-ой Московской трудовой колонией для лишенных свободы». Подобные порожденные пафосом военного коммунизма номерные названия уже стали анахронизмом и были заменены еще в 1922 году понятными географическими. В большинстве случаев номерная часть названия опускалась. С середины 1920-х годов слово «первый» в названии появлялось с устройством второго подобного учреждения: женский исправтруддом (Новинская тюрьма) стал 1-м, когда таким же, женским (2-м) стал Новоспасский монастырь. В обиход меняющиеся названия входили трудно или не успевали войти, поэтому в списке обследованных «московских мз» в апреле 1925 года во избежание невнятицы в том, что именно обследовали, официальное название дополняли понятным: «Труд. Фабр. Зав. Колония — Ивановский монастырь» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 100 Л. 6). Название в списке сконструировано, очевидно, по памяти и аналогии, поскольку трудовой фабрично-заводской она не называлась. Формально условия жизни в колонии были менее строгими, чем в исправдомах. Они, напомним, на шкале строгости занимали положение между обычным исправдомом и переходным. Отпуска в колонии были чаще и продолжительнее. Но работа на кирпичных заводах — а именно такими заводами были московские колонии — была настолько тяжелой, что перевод заключенного из исправдома в фабрично-трудовую колонию являлся не поощрением, а наказанием. (подробнее об этом в Очерке... ) Ивановская же колония своим производством, менее изнурительным, чем глиняные карьеры, более соответствовала положению «легкого» места заключения. Что и отметило обследование в феврале–марте 1925 года: «Трудовая фабр. завод комиссия <так> / Ивановский исправдом. Здесь тюремный режим наиболее мягкий — заключенные свободно ходят по всему зданию» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 100. Л. 7).
Новый начальник планировал расширить помещения мастерских, но «президиум Моссовета на ходатайство о передаче храма Ивановского монастыря под мастерские» ответил, что «Моссовет считает ликвидацию нецелесообразной, а потому вышеуказанное ходатайство отклоняет» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 382. Л. 79).
Пенитенциарные курсы
В начале 1925 года в монастыре обучали не только заключенных, но и администраторов. Сохранился выданный 10 января «пропуск профессору Верховскому П. В. на право посещения аудитории Московской фт колонии для ведения занятий по подготовке пенитенциарных работников» и рапорт Есипова от 20 февраля с просьбой «освободить от работы в губкоме печатников на время пенитенциарных курсов» (Ф. Р 4042. Оп. 8. Д. 382. Лл. 11, 70). Вероятно, эти курсы были продолжением тех, что планировались к открытию в январе 1923 года. Монастырь был центром пенитенциарного просвещения: «В пн 22/6 в 6 вечера в помещении клуба Моск. ф/т колонии (Солянка, М. Ивановский пер., 2) состоится собрание членов Набл. Ком. всех Моск. м/з» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д.5б. Л. 23). Клубом и местом для курсов стала Елизаветинская церковь, находившаяся в той части монастыря, куда был отдельный вход (История монастыря в советский период. ioannpredtecha.ru).
Ящики и красноармейская масса
Есипов с хозяйственными преобразованиями не справился. Несмотря на сокращение, в мастерских работали вольнонаемные. В апреле 1925 года Есипов заболел, и в мае ему вырезали аппендицит. С 1 июля директором колонии назначается бывший начальник Лефортовского изолятора Александр Терентьевич Улановский. Несправившегося, но не злоупотребившего Есипова понизили в старшие помощники заместителя начальника Таганского дома заключения. В октябре 1925 года Улановский, освоивший, вероятно на курсах, профессиональную терминологию, отчитывался в том, как удалось «вовлечь в производство заключенных»: «Почему мы остановились на типовом массовом производстве. <...> До июля месяца <...> имело место и я бы сказал доминирующее место вольнонаемщины. <…>. Вам товарищи небезызвестно, что мы свою пенитенциарную (! – ЕН) систему, политику строим на началах приспособления элементов, попадающих к нам, к тому или иному труду. Так как отбывающая меру социальной защиты красноармейская масса в большинстве своем после отбытия меры социальной защиты возвращается в свою часть для продолжения службы, то для нас важнее всего приспособить эту массу к немудреному производству, к производству более восприимчивому. Таким производством в нашей действительности является производство ящичное» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 355. Л. 26; Оп. 8. Д. 88. Л. 2).
Провинившихся солдат стали отправлять в монастырь, вероятно, с начала 1924 года, поскольку еще с осени 1923 года ГУМЗ сначала предлагает «выделять военнослужащих заключенных по возможности в особые группы и содержать отдельно от прочих заключенных», а в конце года, поскольку «распоряжение это по имеющимся сведениями не проводится в некоторых московских местах заключения <...> предлагает начальникам мест заключения принять самые энергичные меры к изолированию военнослужащих заключенных от прочих уголовных заключенных» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 50. Л. 12). В итоге к 1925 году общим местом изоляции красноармейцев становится Ивановский монастырь.
Внедрение производственной однородности не было собственно административной инициативой Улановского. Он следовал директиве, формально отправленной еще прежнему руководителю: «Июня 12. 1925 начальнику 1-й московской фт колонии. Предлагается в кратчайший срок ликвидировать мебельное отделение столярной мастерской. Приспособить столярную для выполнения исключительно простых работ ящиков, табурет, белых столов и тп» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 198 Л. 72). Несмотря на устройство простого массового производства, монастырь к этому времени уже не считался фабрикой. О преимуществах ящичного производства докладывал не директор колонии, а начальник «Московского (б. Ивановского) Исправтруддома»: приказом «16 окт 1925 Московская фт колония с сего числа реорганизуется в Московский исправтруддом» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д.380. Л. 220). Уточнение в названии –— «с переходным исправительно-трудовым отделением» — осталось на бланках, но, как само отделение, было факультативной частью. Административный разворот, вероятно, был связан с тем, что сторонником воспитания заключенных удалось доказать, что показательное учреждение не может не выглядеть центром культурного просвещения. В марте 1926 года, «подводя итоги», обследователь отмечает «со времени реорганизации МФТК в МИТД <...> значительное расширение и углубление политико-просветительской работы».
Кроме того, даже однородное производство, очевидно, было меньше того, что надлежало иметь фабрично-трудовой колонии. В середине сентября 1926 года освободившееся название 1-й Московской фабрично-трудовой колонии получил завод «Экспресс» на Шаболовке. Чтобы не было путаницы, до января 1930-го он совмещал бывшее в употреблении название колонии с оригинальным заводским (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 201. Л. 341; Оп. 10. Д. 34. Л. 1).
Отчасти освободившись от производственных задач, исправдом сохранил колониальную мягкость порядка, который основывался уже не на установлении, а на традиции: «...несмотря на реорганизацию места заключения из фабрично-трудовой колонии в исправдом с переходным отделением, проводимый режим по существу не подвергался изменениям <...> двери камер не закрываются. Свидания и передачи начального разряда через воскресенье, среднего по воскресеньям, высшему — дополнительно в среду. <…> имеются случаи отпуска заключенных состоящих в начальном разряде, как единоличной властью начальника. <...> Неправильно понятие календарного года, потому что <в результате считается, что> заключенные могут пользоваться ежегодным отпуском дважды: осенью и после нового года». Караульных было немного: «охрана несется 5 постами — 1 внутренним и 4 наружными включая привратника» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 32а. Л. 1). Для усмирения заключенных вызывали военных. Среди происшествий за июль–сентябрь 1926 года: «отказ 3-х заключенных подчиниться дисциплинарному взысканию за подготовлявшийся побег, причем ввиду возникшего из-за этого брожения среди группы заключенных уголовников — в следствии нападения трех заключенных на надзирателей, потребовалось вызвать красноармейцев». Отправили «бунтующих в Лефортовский изолятор» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 29а. Л. 270).
Слово «московский» в названии исправдома, так же как и колонии, подчеркивало его особое центральное положение. Он не был единственным исправительным домом в Москве, но другие сохранили свои тюремные названия: Сокольнический, Новинский. В их полных официальных названиях «Московский» дополняло тюремный титул: Московский Сокольнический… и т д. Первое время к названию просто Московского исправдома добавлялось для ясности «б. МФТК» — московская фабрично-трудовая колония — или, как выше, «б. Ивановский». С сочетанием Московского и Ивановского в названии связана еще одна коллизия. Еще в 1923–1924 годах, когда исправдом был Ивановским, в общероссийских списках мест заключения к названию Ивановский добавляли Московский, чтобы показать, что он находится не в Иванове. Когда же он стал Московским, то был им только в аббревиатуре — МИТД, в большинстве случаев употреблялось понятное в Москве монастырское название — Ивановский.
В июле 1926 года, через восемь месяцев после оглашения многообещающего проспекта, Улановский уже разоружался перед начальством, описывая крах исправительной коммерции: «Период предшествовавший отчетному характеризовался сокращением у нас массового производства ящиков, вызванного неблагоприятной конъюнктурой лесорынка с одной стороны и снижением цен на ящики с другой. <...> потребный материал отсутствует вовсе <...> или имеется в очень слабом предложении. <...> приобретать таковой случайными небольшими партиями по высоким и крайне высоким ценам. <...> скорее хуже обстоит дело с упаковочным железом. <...> Эти неблагоприятные условия в значительной степени парализуют и добрый почин и широкие перспективы нашего производства. <...>При существующей цене на лес и железо в среднем ящик как единица нашего производства обходится нам свыше рубля, а цена на ящик в Центроспирте всего рубль 10 копеек и следовательно прибыль на единицу изделия выражается всего в 6–8 коп. Конечно такие результаты не в состоянии удовлетворить даже самые скромные желания. <...> В будущем есть надежда эти условия изменить в корне. Необходимо выждать время, чтобы с одной стороны найти лесоматериал по более низким ценам, а с другой дождаться повышения спроса на ящики, что обычно наблюдается к осеннему периоду и соответственно повысить расценок наших изделий». За май–июль в столярной мастерской сделали: «диванов 78, шкафов 350, щитов 612, мелк вещей 12, В ящичной мастерской — 26 546 ящиков. (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 355. Лл. 52, 53). Тысячи сколоченных ящиков не опровергают сообщение об упадке предприятия. До кризиса их делали в 10 раз больше. Ревизор, проверявший исправдом 24 мая 1926 года, указывает в большей степени не на конъюнктуру рынка, а на упрямство начальника: «Рабочая часть Ивановского Исправдома имеющая в своем ведении ящично-столярную мастерскую проводит работу главным образом по линии массового производства однородных предметов. <…> производство достигало в декабре прошлого года 3000 ящиков в день, вовлекая при этом в работу 100% заключенных. Вследствие отказа начальника снизить расценки <…> на чем настаивает работодатель Спирто-водочный завод, мастерские работают с малой нагрузкой». (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 32а. Л. 10). Возможно, замечание ревизора было учтено, поскольку с июля по сентябрь «успешность работы ящичной мастерской повысилась. <...> сделано ящиков 44220 штук против 20115 3-го квартала <причина> Получение заказа для Центроспирта и более дешевые цены на материал» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 29а. Л. 270).
«Штатных мест» — общее количество
Сколько заключенных должно было остаться в исправительном доме в 1923 году, после «ликвидации» лагеря, не установлено. В декабре этого года в исправительном доме было 350 «штатных мест», и их количество не менялось до апреля 1926 года. Хотя предполагалось, что монастырь вместит больше заключенных, чем вмещал монахинь и священников, тесно в образцовом учреждении быть не должно. В описании Исправдома, сделанном в феврале–марте 1925 года, для заключенных назначались «кельи на 2 человека, очень чистые и хорошо обставленные, тип обычной студенческой комнаты» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 100. Л. 7). Сведения о количестве заключенных в 1924–1926 годах фрагментарны. Значительная их часть выбрана из производственных и учебно-воспитательных отчетов. В декабре 1924 года Белов передавал Есипову 177 человек. В первой половине 1925 года заключенных около двухсот. Больше всего в январе — 221 человек, меньше всего в апреле — 145 (в приложенной таблице приведены сведения за все месяцы).
К осени заключенных становится больше. В августе заключенных 236, на 1 октября (то есть в сентябре) — 269, затем постепенно еще больше. В ноябре — 324, декабре — 374. В это время выросло, очевидно с завершением ремонта, и количество «штатных мест». В производственных отчетах в октябре было 360 мест, в ноябре 370, а в декабре 385. Несколько месяцев заключенных будет почти четыреста: в январе 1926 года — 396, в феврале — 392, в марте и апреле 395. В июне и июле заключенных становится меньше: 325 и 303 человека соответственно. В августе уже 389, в сентябре — 374, а в октябре — 370. «Среднесуточное» число заключенных в ноябре, указанное в двух отчетах, незначительно различается: в одном — 351, в другом — 355. В декабре 1926 года в монастыре живет почти вдвое меньше человек — 210. Осеннее сокращение связано с тем, что в середине октября учреждение для заключенных в монастыре вновь преобразовано. Подробнее об этом преобразовании — ниже. (Ф.Р4042. Оп. 3. Д. 49. Л. 1; Д. 355. Л. 26; Оп. 4. Д. 108. Л. 11, 17, 49, 108; Д. 145. Лл. 18, 98, 101, 106, 110, 114, 118, 122, 128, 131, 134, 142, 145; Оп. 8. Д. 55. Л. 35; Д. 382. Л. 14-17; Оп. 10. Д. 17. Л. 53; Д. 38. Л. 129).
С конца 1924 года до ноября 1925 года заключенных было почти в два раза меньше, чем «штатных мест», вероятно, по случаю упоминаемого в документах этого времени ремонта. Исправдом подновляли в 1923–1924 годах. В обосновании ремонта сохранились сообщения об обвалах штукатурки и пр. Кроме аварийно-косметического ремонта в 1924–1925 бюджетном году (от октября до октября) была запланирована «замена водопровода пришедшего в негодность свинцового и из гончарных труб», крыши и пр.
За воинские преступления
В ноябре с окончанием ремонта резко увеличилось и количество заключенных. Весной числившиеся в исправдоме заключенные уезжали и возвращались осенью. В начале 1925 года воспитатель оправдывается за недостаток занятий: «Ввиду того, что большая часть заключенных Ивановского Исправтруддома является крестьянами и на летнее время увольняется в отпуск на полевые работы, работа УВЧ в летнее время сильно сокращается» (Ф. Р4042. Оп. 4 Д. 108. Л. 2). В 1926 году летом заключенных также становилось меньше. «Красноармейская масса» в объяснениях воспитателя не упоминается, вероятно, в начале года наказанных солдат в исправдоме не было. Летом военный прокурор Московского округа уже сообщал, что «в московской фт колонии военнослужащие <составляют> 70–80% заключенных <которых приговорили к заключению на срок> от 3 до 12 мес.». На 1 октября 1925 года наказанных за «воинские преступления» 121 человек, на 1 апреля 1926 года «военных» — 117. В июле 1926 года от красноармейской массы остается четверть. 10 числа, когда проверялась «правильность содержания в нем военнослужащих», «имеется 30 человек, в отдельных камерах отведенных для военнослужащих», но на 16 августа «военнослужащих <…> на лицо 81 чел. <...> Всем довольны <...> камеры чистые».
В подробном, поскольку годовом, описании заключенных, составленном на 1 октября 1925 года, отмеченные в одной категории «воинские преступления» составляли самую большую группу (121 человек). Следующая по величине группа — «растрата и присвоение» — 53 человека, к ней же можно добавить занимающую отдельную строчку «присвоение и растрата» — 2 человека. Еще одну группу — 35 человек — составляют две категории преступлений, порожденных властью: «злоупотребление властью, превышение и бездействие власти» (15 человек) и «взяточничество и провокация взятки» (20 человек). 17 человек были осуждены за кражи: «лошадей, КРС <крупного рогатого скота — ЕН>, а также во время общественных бедствий — 1, Другие виды квалифицированной кражи — 8, Кражи простые — 8». Оставшаяся часть криминальной палитры в октябре 1925 года выглядит так: «Бандитизм — 2, Прочие преступления против порядка управления — 5, Приготовление и сбыт спиртных напитков — 6, Разные хозяйственные преступления — 2, Убийства — 4, Тяжелые телесные повреждения — 1, Половые преступления — 4, Хулиганство — 2, Другие преступления против личности — 2, Разбой и грабеж — 2, Мошенничество, подлог, фальсификация — 6, Другие имущественные преступления — 4». Помимо обычных заключенных был и политический: «Контр-революционные преступления — 1».
Большая часть заключенных должна была находиться в заключении год и меньше: до 6 месяцев 92 человека, от 6 месяцев до года — 94. 61 человек был осужден на срок от года до трех. Из них 42 людям присудили 2 года и меньше и 19-ти — больше. Приговоры от 3 до 5 лет получили 8 человек и от 5 до 10 — 14. 27 человек были приговорены «к строгой изоляции». Среди приговоренных к длительному лишению свободы и строгой изоляции, вероятно, были 25 «рецидивистов». Шестеро из них приговаривались более двух раз.
В октябре 1925 года масса заключенных в исправдоме не только красноармейская, но и на четыре пятых рабоче-крестьянская: рабочих — 98, крестьян — 100, служащих и лиц интеллигентного труда — 59, нетрудовой элемент — 4, без занятий безработные — 8, прочие — прочерк. В этом описании «без занятий безработные», вероятно, относится не к собственно занятиям, а «происхождению», поскольку в криминальном описании этого же отчета в категории «Б.О.З. <без определенных занятий? – ЕН> и безраб.» числятся 33 человека, в «прочие» записано – 23. Эти категории не продолжают список преступлений, а дополняют его, представляя отдельное описание.
С увеличением количества заключенных в ноябре 1925 года стало больше пролетариата и «прочих». К первому апреля 1926 года крестьян в исправдоме почти столько же, сколько в октябре 1925-го, — 108, рабочих же 143, а прочих 144. Последние включают, очевидно, и «служ. и лиц интеллигентного труда», подчеркивая их социальную второстепенность. В этом отчете отдельно отмечена и идейно близкая группа: «б. членов партии и комсомольцев 70 чел.». Социальное, криминальное и образовательное описания в отчетах не сопоставлены. На их основании из обширного отчета, составленного на 1 октября 1925 года, и докладов воспитательной части можно предположительно выделить две большие группы среди заключенных. Одну составляют «служ. и лица интеллигентного труда» (59 человек), очевидно со средним и высшим образованием (53+5. данные декабря 1925), которые осуждены за сочетание растраты с присвоением (53+2) и приговорены к заключению от года до трех (61 человек). Другую составляют рабочие и крестьяне (98+100), наказанные заключением от нескольких месяцев до года (92+94) в большинстве за воинские (121) и другие, как тогда говорили, «случайные» преступления. Эту реконструкцию подтверждают выводы ревизора в марте 1926 года, отмечающего, что «преобладающий контингент заключенных составляют «растратчики» (113 ст. УК) и красноармейцы» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 32а. Л. 1).
К концу 1920-х образованные «растратчики» станут «вредителями», а затем «врагами народа». Учебная статистика показывает, как увеличивается группа образованных заключенных. В 1925 году подавляющая часть заключенных числилась грамотными (от 190 до 108) с низшим образованием (181 от до 100). При этом в январе 1925-го есть один заключенный с высшим образованием (в феврале — два) и 8 со средним. В сумме десять или чуть меньше их остается до октября. К концу года заключенных становится вдвое больше. Одновременно резко больше становится заключенных со средним образованием. В ноябре их 51, а с высшим — 5. В 1926 году больше всего образованных заключенных в марте: 79 и 6. В отличие от крестьян (которые получали отпуска) в июле их столько же, сколько в ноябре (56 и 5). В августе, когда число заключенных было максимальным, среди них было уже 11 с высшим образованием, со средним — 70 (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 108. Л. 12, 17, 33, 37, 49, 68, 77, 79, 108; Д 145. Л. 101, 106, 110, 114, 118, 122).
Порции и белье
О своем положении грамотные заключенные в январе 1926 года рассказывают в заявлении «от заключенных Ивановского исправтруддома московскому губпрокурору. <...> обед состоит из одного блюда равно и ужин, причем порции обеда и ужина далеко не удовлетворяют требованиям заключенных, работающих в весьма тяжелых условиях труда. Приготовление на кухне в антисанитарном состоянии <…> работаешь в своей одежде и обуви, никакого белья не получаем <..> в отпусках царит непонятный произвол» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 26б. Лл. 46, 60). Последовавшая, очевидно за этой жалобой, проверка, отчет которой процитирован выше, и отмечает незаконные знаки поощрения и благоволения: «случаи отпуска заключенных состоящих в начальном разряде, как единоличной властью начальника» и два ежегодных отпуска «осенью и после нового года». В архивном деле сохранилось несколько экземпляров жалобы, которую заключенные, видимо, старались отправить в обход перехватывающей их администрации. К приходу комиссии администрация подготовилась. Отчет отмечает, что кухня не антисанитарная. В приложении «о жалобе 27 заключенных на умаления их прав, которую начальник задержал на 2 недели, что признано неправильным» комиссия заключает: «Положение улучшилось <…> питание хорошее <...> жалоб на запугивание и непосильные работы не поступало». Еще заместителю начальника Осипову сделано замечание за санитарное состояние подвалов. (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 32а. Л. 1). В марте же «камеры исправдома несмотря на значительное переполнение содержатся в чистоте» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 32а. Л. 1). Апрельская ревизия отмечает «большой недостаток белья на 395 заключенных имеется рубах 100, кальсон 50, наволочек 300, простынь 50 полотенец 100, одеял 200». Инспектор рассуждает о том, чтобы «комплект белья довести хотя бы до числа штатных мест» (Р4042. Оп. 10. Д. 38. Л. 129).
Помимо заключенных в монастыре жили еще и патронируемые — бывшие заключенные, которым недавно созданный Комитет помощи заключенным дал временную работу и жилье. Подробнее об этом учреждении в «Очерке истории лагерей…». Общежитие для патронируемых в Ивановском монастыре появилось в начале 1925 года: «на 16 февраля наличие патронируемых 13 человек». В связи с этим начальник жалуется, что «выделенное <...> помещение для патронируемых, согласно предписания вашего от 14 сего января <…> в настоящее время уже переполнено и абсолютно не представляется возможным в дальнейшем производить размещение вновь прибываемых по распоряжению Главумзака» (Ф. Р4042. Оп. 11. Д. 19. Л. 13). Жалоба подтверждает то, что в это время часть помещений были закрыты, поскольку в исправдоме находится только 221 заключенный.
Стеллажи и сукна
Заведовал воспитанием и образованием заключенных в 1926 году сменивший тов. Фермана Глеб Лукьянович Райкин. В декабре 1924 года ивановская администрация просила «о переводе воспитательницы Коробкиной в Женский Новоспасский Исправдом», поскольку у нее грудной ребенок, а Новоспасский ближе к дому (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 108. Лл. 5, 114). Но воспитательница осталась работать в Ивановском, поскольку «школьные занятия ведутся учителями тт Швеем и Коробкиной и заключенным Борисовым (имеет 20-летний педагогический стаж, осужден по 113 ст. УК <растратчик — ЕН>)» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 32а. Л. 1). Устройство немудреного однородного производства сократило просветительскую программу для заключенных. Хотя ревизоры отмечали «со времени реорганизации МФТК в МИТД <...> значительное расширение и углубление политико-просветительской работы», но «количество концертов и спектаклей, поставленных в МИТД можно указать, только с 1. 1 1926, так как никаких записей до этого срока в делах УВЧ не сохранилось». В начале 1925 года в монастыре, скорее всего, играли Гоголя. В феврале Главумзак ивановским артистам «разрешает постановку спектакля «Женитьба» Н. В. Гоголя в 1-м женском исправдоме и труддоме для несовершеннолетних» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 108. Л. 8). Можно предположить, что до выездных спектаклей пьеса уже была разыграна.
Весной 1926 года в исправдоме есть драмкружок и музыкальный. Участников постановок было немного. В «культпросвете» в 1925 году числилось 10–11 человек, из низ 5–7 заключенные. В январе 1926 года вольных служащих осталось пятеро, но заключенных 37, что, очевидно, вызвало возмущение начальника. В июле заключенных артистов — 17, в сентябре — 14. Спектакль, концерт или кино были раз или два в неделю (от 4 в июне до 8 за месяц). На каждом присутствовало, по отчетам, 300 человек. (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 145. Л. 98–122). 13 января 1926 года был показан «Спектакль антирелигиозный», 23 января — «Концерт. Программа не указана», 16 февраля играли водевиль «§255» Петра Акилова, 11 мая — «дивертисмент силами заключенных из драматических и музыкальных номеров», 7 июня и 12 июля — «концерт артистов эстрадников», очевидно, его давали приглашенные артисты. 18 июня была сыграна «Тетка Чарлея», а 27 июля и 3 сентября «вечер самодеятельности. пение музыка и рассказы». 20 сентября — «Концерт Вольных артистов пение и рассказы» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 100. Л. 166).
О подробностях постановок рассказывала в марте 1926 года клубная работница Татьяна Ярошевская: «Спектакль готовившийся около 2-х недель, был начальником запрещен (костюмы и парики были заказаны, за все было заплачено), и только благодаря вовремя подоспевшему уч восп частью, было получено разрешение непосредственно из Главного Управления и спектакль не был снят. В одном из следующих спектаклей за 15 минут до начала был вызван на производство в самой категоричной форме заключенный, занятый в одной из главных ролей (несмотря на то, что у него имелся на производстве заместитель). Однако заключенный самовольно нашел возможность отлучиться при острой нужде в нем на производстве и спектакль пошел». Можно предположить, что запретить Улановский хотел вредящий труду вызывающе легкомысленный «Параграф 255» — переведенный в середине 1858 году с французского водевиль о дочке цирюльника и корсетном подмастерье. Параграф уголовного кодекса в заголовке наказывает каторгой за сломанные печати, которыми мировой судья опечатал шкафы, в которых укрылись его жена и дочь цирюльника, а затем оказались он сам и цирюльник. «Спектакль антирелигиозный» мог быть миниатюрой с комическими священником в центре. Подобные спектакли, написанные по модели эстрадных скетчей, ставились в Новоспасском монастыре.
Представления проходили, вероятно, в том же зале-трапезной, что и в 1919 году, в самом аскетичном, но продуманном оформлении, идейность которого контрастировала с легкомысленными постановками:
«Помещение театра-клуба представляет собой большой отдельный зал вместимостью на 150–200 человек стены его хотя и украшены венкообразными орнаментами предназначенными по видимому для портретов революционных вождей на момент обследования были совершенно пусты. Не было портретов лозунгов плакатов, что могло бы приковать внимание зрителя вошедшего в зал. Сцена и авансцена театра устроены хорошо, имеется световой монтаж, декорации заменяют сукна» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 98. Л. 211, 219).
В зале было поставлено сорок трехметровых (1,33 саж.) скамей — «скамьи со спинками» (Ф. Р4042. Оп. 5. Д. 25. Л. 8). В постановках исключительно комедийных организаторы явно следовали вкусу зрителей, а не идеологическим директивам, которые, чтобы они не пострадали от водевилей, собрали в особом помещении: «В уголке Ленина в противоположность театру глаз радостно останавливается на портретах вождей, плакатах, таблицах, диаграммах и стенных газетах. Отрадное впечатление оставляет читальня она же школа стены которой также украшены различными стенными таблицами. <…> выписываются "Известия ЦИК", "Правда", "Рабочая Москва", "Рабочая Газета", "Беднота", из журналов "Печать и Революция", "Коммунистическое просвещение", "Красная Нива", "Огонек", "Красный Перец", "Крокодил", "Бузатер", "Смена"» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 98. Л. 219).
Учебно-воспитательная работа подрывала и без того шаткие производственные планы начальника. В феврале 1925 года инспекторы сетуют на то, что «вновь наблюдаются случаи столкновения между служащими на почве личных взаимоотношений» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 380. Л. 41). В октябре 1925 года раздосадованный ящичной неудачей Улановский просит «забрать учителя Швея, как склочника». Конфликт был порожден тем, что школьные и внешкольные занятия, их подготовка давали законную возможность заключенным избежать работы в мастерских. Двадцатидвухлетний учитель В. И. Швей подробно объясняет вздорность обвинений. Поскольку инспектором Административного отдела ГУМЗ был Александр Иванович Швей (брат?), то забрать склочника было трудно. В ноябре начальник учителя заведующий воспитанием Райкин сигнализирует о том, что «начальник исправдома Улановский тормозит культурную работу. <...> 6. 11. 25». Улановскому удалось справиться с воспитательной фрондой, и в феврале недовольный заведующий был уволен. Угнетаемые начальником учителя объявили 1 марта забастовку. Уволенному вслед за Райкиным Швею, чтобы получить свои «книги <учебники> и партию шахмат с доской», потребовалось распоряжение из ГУМЗ (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 98. Л. 209, 211, 228; Д. 108. Л. 103, 104).
Приказом «17 апреля 1926 года Еронин Петр Трофимович допускается с месячным испытательным сроком на исполнение должности завед. Уч восп часть московского исправтруддома с 20 апреля». Но уже «августа 1 дня Еронин откомандирован в распоряжение Бауманского райкома за систематическое появление на службе в нетрезвом состоянии. <...> тов. Еронин считается уволенным с 23.07 сг (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 495 Лл. 5, 18). Личные обстоятельства заведующего могли повлиять на выбор репертуара. В сыгранной на излете карьеры Еронина «Тетке Чарлея» немало алкогольных реприз. Программа просвещения с июля до сентября преимущественно школьная: «Ликбез <...> платных развлечений не было» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 29а. Л. 270).

Под двумя надстроенными этажами окна театра (трапезной), 2017 год. Фото: Чеботарь А. М. / temples.ru
Библиотека
В начале 1920 года разделенный на шесть отделов (социально-политический, естественно-математический, историко-филологический, беллетристический, периодические издания, произведения на иностранных языках) каталог лагерной библиотеки занимал 15 листов. (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 92. Л 1–15). В марте инспектор констатировал: «Библиотека в полном порядке. Спрос есть, но книг нет. Преимущественно читается беллетристика», а из апрельского отчета известно, что «число томов около 1700, но книг хороших немного 300–400. Необходимо пополнить библиотеку русскими классиками и другими книгами».
Значительно пополниться она могла в конце 1922 – начале 1923 года. В декабре было написано «директору Ивановского исправдома от Заключенной Соловьевой-Даненберг Екатерины Петровны заявление. В 1921 году в июле месяце мною было дана во временное пользование Новопесковскому лагерю библиотека состоящая более чем из 600 томов изданий русских, французских и немецких в крайне редких и ценных переплетах». Она объясняет, что получила разрешение из Управления забрать книги и, возможно, продать, с тем чтобы половину вырученных денег отдать на нужды культпросвета. 26. 12. 1922. Начальник исправдома просил управление содействовать в перевозе книг, поскольку «за неимением перевозочных средств это не было сделано. В настоящее время библиотека в половинном виде перевезена в ГУМЗ». Управление от разрешения не отказывается: «Передача библиотеки Ново-Спасского лагеря (так) во вверенный вам исправдом желательна. Сведения о перевозке части библиотеки в Главумзак не правильны, так как таковая в Главумзак не поступала». (Ф. Р4042 Оп. 4. Д. 34 Л. 1-3; Д. 209.). Название лагеря ошибочно скорее всего в ответе ГУМЗ, поскольку в Новопесковском в июне 1921 года Соловьева-Даненберг председательствовала в президиуме Культпросвета (Ф. Р393. Оп. 89. Л. 114). Вероятно, она заведовала лавкой исправдома в 1923 году и ее кредитом пользовались при постановке «Сокровища». Летом 1922 года инспектор кратко сообщает, что «библиотека хорошая». В январе 1923 года «библиотека открыта с 6 до 8 вечера, и по праздникам от 10 до 12 или после свидания с от 3 до 5 часов». Летом 1923 года «библиотека пополнена новыми изданиями». В июне в ней 1500 томов: «Библиотека обслуживает всех заключенных<...> Читальню ежедневно и в среднем посещают до 130 чел.». Знакомая по театральной афише ютящаяся с семьей в проходной комнате воспитательница Шведе «проводит групповые чтения газет с разъяснениями и беседами». «Библиотека усиленно пополнялась» весь год. Среди прочего в сентябре для Ивановского исправдома заказаны «книги Ленина и Маркса Энгельса» — 21 и 32 издания соответственно.
Помимо получения новых изданий в ивановском исправдовме реставрировались ветхие, те, что еще оставались. Библиотечная строчка в отчете 1925 года сообщает, что «книги переплетены в переплетной мастерской». Отчет 1926 года отмечает тщательное книжное собрание исправдома:
«Библиотека МИТД это его гордость. <...> находится в прекрасном состоянии. Все книги расклассифицированы по десятичной системе. Большинство из находятся в переплетах и образцово расставлены на специальных библиотечных полках. На 27 марта <...> 3934 тома» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 32а Л. 1).
Половина из них беллетристика. Но вскоре книжное собрание пересмотрели, и к июню от него осталось меньше половины —1611 томов (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 145. Л. 110; Оп. 10. Д. 38. Л. 157). Переплетались книги и поддерживался порядок под присмотром опытного книжника.
Упомянутая в истории лагеря типография среди производств исправительного дома и колонии не отмечена. Прямой предшественницей предприятия НКВД выглядит типография монастырского времени: «с запада от Собора располагались келейный корпус и синодальная типография» (Проект реставрации монастыря / http://ioannpredtecha.ru/2015/09/16/proekt-restavracii-monastyrya-budushhie-vidy). Но в исторической справке «Государев печатный двор и синодальная типография в Москве» (М., 1903) все ее помещения находились в историческом здании на Никольской улице. Во «Всей Москве» на 1917 год «Никольская, здание типографии» — ее единственный адрес. В описании монастырских помещений 1914 года типографии нет. Возможно, что типографские станки, по позднейшим описаниям предельно изношенные, находились в монастыре еще до того, как монастырь был очищен ВЧК, но когда их привезли в монастырь, неизвестно. Монастырские помещения могла занимать не синодальная типография, а ее склад. Разного рода склады перечислены в описании монастыря 1914 года. Отчеты 1919 года, напомним, типографию не упоминают. В лагере есть только столярно-плотницкая мастерская, но «первый этаж пристройки занят частью складами типографских машин и бумаг». Приказ 29 октября 1921 года подчиняет Управлению принудительных работ «вновь <в первый раз — ЕН> оборудованную типографию Ивановского лагеря» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 24, 167 ). Начали устраивать типографию, напомним, весной 1921 года. Осенью среди прочего в других лагерях искали типографских рабочих и переводили их в Ивановский. 28 сентября из Новопесковского лагеря бежал «назначенный <...> к отправке в Ивановский лагерь» заключенный Карпов, которому объявили, что он «будет работать в Ивановском лагере по специальности <...>как наборщик». Карпов просил разрешения остаться, поскольку «недалеко проживает его мать», а когда ему сказали, что решение «не может быть отменено», — бежал (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 205. Л. 312). Работников для типографии искали в лагерях других городов. В декабре из Рязани в Москву привезли «специалиста по типографскому делу» Александра Мануйлова, сына хозяина тифлисской типографии, в которую он сам «заходил по любознательности и только» и не имел «с типографиею <...> ничего общего». В конце июня 1922 года комиссия обследователей обсуждает переезд в другие комнаты лагерной амбулатории «ввиду расширения типографии». К этому времени, напомним, в типографии уже работают 80 человек (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 11. Л. 194; Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42). Выше, в описании лагерного хозяйства, упоминались работы и работники типографии этого времени. После открытия Исправительного дома предполагаемая к расширению типография должна была стать предприятием. Поскольку в рабочих отчетах исправдома 1924–1926 годов работники типографии не упоминаются, вероятно, заключенные в ней не работали, но заведовал предприятием начальник исправдома / директор колонии, который одновременно был помощником директора Объединения типографиями ГУМЗ по типографии исправдома / колонии.
Так же как со столярной мастерской и пекарней, об организации печати договорились со «спецом»-инструктором. В феврале 1923 года договор о ремонте типографских машин был заключен с крупнейшим русским издателем Иваном Дмитриевичем Сытиным.
По обмолвке в письме Петру Макушкину можно предположить, что Сытиным двигала необходимость содержать большую семью:
«Дела наши замерли <...> Сижу, скучаю, мучаюсь с типографиями в исправительных двух учреждениях. Как бог поможет выбраться из них? <...> Надо кормить внуков и правнуков. Много малышей. Все учатся. Мужчины служат <...> в январе <похоронил> — сноху, жену сына Василия. Оставила четырех внучат».
Вероятно, повлияло и человеческое стремление к завершению начатого. В типографиях исправительных домов он мог издать «незавершенку» — многотомные собрания сочинений и энциклопедии. Одна из типографий, с которыми мучился Сытин, находилась в Таганской тюрьме, другая — в Ивановском монастыре. Они составляли упомянутое Объединение типографий ГУМЗ и указаны в выходных данных изданий НКВД второй половины 1920-х годов.
В мае Сытин заключает новый договор, который считается частью прежнего, заключенного на два года: «в развитие договора от 10 февраля 1923 г в целях расширения работ и в отделении типографии Главумзака при Ивановском Исправдоме, а так же переплетной при нем и открытия подсобных к нему мастерских пакетной, конторских книг и брошюровочной Сытин обязуется привести в действие машины». Типография была не подсобным производством НКВД, а выгодным предприятием. От Сытина требовалось «всемерное привлечение заказчиков». По этому договору Сытин «получает 45% чистой прибыли». Сытин покупает для типографии бумагу в Германии и, устроив московские типографии Главного управления местами заключения (Главумзака), знакомится с издательским делом в Америке. В декабре 1924 года несмотря на то, что потраченные средства на оборудование он не вернул, или в надежде получить долги Сытин просит продлить договор. По заключенному в феврале 1925 года трехлетнему договору Сытин получает только 20% чистой прибыли, причем доля Главумзака не может быть меньше 1750 рублей гарантированного платежа, которые Сытин обязан заплатить частями раз в два месяца. В марте 1926 года Сытин «подал заявление в ГУМЗ об освобождении его от обязанностей по заведованию и инструктированию типографиями и мастерскими и просит произвести с ним расчет». 13 июля к обязательствам Сытина и ГУМЗ добавляется новый договор, который расторгнут 18 августа. 30 августа расторгнут основной трехлетний договор, но никакой расчет не произведен. Сытин несколько месяцев пытается его получить, объясняя, что типографии он восстановил на свои 8 тысяч рублей, они дают прибыль, но после выплаты гарантированного платежа на его 45% ничего не оставалось (речь идет о договоре 1923–24 годов – ЕН), что ему не давали нанимать сотрудников, а «выдачи производились сотрудникам ГУМЗ в деле не участвующим <...>Пухальский, Козлова, Бот, Иоффе, Серебряков, Гузовский, Надрежецкий, Евстифеев». Кроме того НКВД не оплачивала свои заказы: брошюры, бланки, циркуляры и пр, которые печатались с 15% скидкой. Вместо расчета «Главумзак предлагает принять энергичные меры для оплаты заказов». Юрисконсульт НКВД Ликарион Иванович Диесперов, бывший присяжный поверенный, подтвердил обоснованность требований Сытина. Среди прочего к разъяснению прилагалась справка о том, что Рабочая часть колонии «не является юридическим лицом», то есть она не имела права заключать договор. Но помощник начальника ГУМЗ Корнблит попросил Диесперова пересмотреть свое заключение, а начальник отдела работ ГУМЗ М. Кесслер напомнил, что гарантированного минимума прибыли типография не давала, а сыновья Сытина получали зарплату в издательском предприятии Главумзака: инженер Николай заведовал типографией в Таганском домзаке, а Дмитрий — конторой типографии. Кроме того, «тюремная мастерская брошюровала книги для «Т-ва И. Д. Сытина».
Сытин подает гражданский иск в суд, на что ГУМЗ, очевидно, подает встречный иск и выставляет Сытину счет на 10 161 рубль. Затем счет уточнили до 10 946 рублей.
В него внесли не оплаченный за несколько лет гарантированный платеж и расходы издателя и инструктора, организатора типографии Петра Ивановича Крашенинникова, который сопровождал 74-летнего Сытина в заграничных поездках.
Сытин пишет начальнику ГУМЗ Ширвинду и объясняет, что предъявленное ему «требование является неправильным и в корне несправедливо», что в его годы в поездке без помощника нельзя и что бумагу, которую он «разбазарил», продали в кредит под его имя, а НКВД сам ее потом и перепродал. К декабрю долг Сытина уменьшился. Сначала до 6 189 рублей (согласились с частью командировочных расходов Крашенинникова), но быстро добавили еще 1100 рублей: «ГУМЗ произведя расчет определило, что Сытин должен уплатить ему Р. 7289.74». До февраля 1927 года Главкумзак, указывая на суд, требует от Сытина рассчитаться. Сочувствующий Сытину юрист НКВД, также бывший присяжный поверенный Александр Владимирович Кучкель, пытается помочь опрометчивому издателю избежать суда и неизбежного заключения: «Мне было поручено Вами принять на себя ведение дела по иску к гр Сытину по расчетам его с ГУМЗ». Кучкель объясняет, что «договоры с Сытиным незаконные, ГУМЗ не имел права их заключать на что указал судья. И судья надеется получить бумагу о прекращении дела, дабы не ставить ГУМЗ в весьма неприятное положение, могущее возникнуть при вынесении соответствующего решения. Прекратив дело ГУМЗ ликвидирует свои отношения с гр. Сытиным на условии, что последний не предъявит ГУМЗ никаких претензий, на что Сытин безусловно согласится. Настоящим прошу вашего распоряжения и со своей стороны считаю этот выход наиболее целесообразным. Юрист консульт НКВД Кучкель 9 мая 1927 года». Претензии ГУМЗ к Сытину сократились вдвое: «Окончательное заключение. Сытин остается должным ГУМЗ 3601. 83», но сумму осталась по-прежнему непосильной, что, скорее всего, и привело его к заключению. (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 64. Л. 9, 15, Д. 194. Лл. 1, 28, 36, 63, 65, 185, 255, 261, 262, 274, 275, 284, 286, 295–299; Д. 195. Лл. 1, 62, 126; Д. 496. Лл. 3–5, 11–46, 69 об., 77 об. ). Кучкеля в марте 1934 года обвинили в антисоветской агитации (статья 58–10 ч. 1), но через два месяца дело прекратили (База данных «Жертвы политического террора в СССР». base.memo.ru/person/show/2681595).

Семья Сытиных: Иван Дмитриевич, Евдокия Ивановна и дети Мария, Николай, Василий и Владимир. Фото: culture.ru
В изданной в 1980-е годы биографии Сытина сотрудничество с местами заключения выглядит идиллически: пожилой издатель помогает молодой власти (Коничев К. И. Л., 1955 «Русский самородок»).
Учитывая набор упомянутых в биографии фактов — в частности, подробности восстановления типографии явно выбраны автором жизнеописания из писем Сытина руководству ГУМЗ, — эта идиллия основана на документах приведенных выше дел, а письма в ГУМЗ названы дневником.
При этом помощник Сытина становится неким Крашенинниковым, пытавшимся «подвести под статью» издателя. Здесь же решительно опровергается белогвардейская ложь «в газете "Руль" (иначе называемой "Вруль")» о том, что «большевики запрятали в тюрьму бывшего знаменитого издателя». В позднейшей биографии упомянута только сытинская «незавершенка», печатавшаяся «в типографиях одного из исправительных домов, техническим руководителем которой некоторое время работал Сытин» (Динерштейн Е. А. Иван Дмитриеевич Сытин. М., 1983. С. 237). В 1928 году Сытин, вероятно, вернулся в Ивановский монастырь. Устраивавший дела Сытина юрист Лев Юрковский вспоминал, как его пригласил Мещеряков (Владимир Николаевич, председатель Главполитпросвета — ЕН) и рассказал, что к нему «обращаются разные люди с просьбой похлопотать за б. издателя Сытина, который в настоящее время содержится в Лефортовском изоляторе. Упекли его туда на два года за неплатеж налогов. <...> я <Юрковский> поспешил на Ильинку в НКВД, которое в те времена было еще очень скромным учреждением, ведавшим делами коммунального хозяйства, милиции и местами заключения. <...> в 1926, это учреждение, помещавшееся в б. банковском доме Юнкера, было почти академическим, и входить туда можно было без пропуска и страха. <...> На следующий день я устремился опять в Главумзак». После Юрковский встретился с заключенным Сытиным: «Мы вас переведем в Ивановский Исправдом, где вы получите отдельную комнату для жилья и будете питаться вместе с тюремной администрацией» (Юрковский Л. Иван Дмитриевич Сытин: Из воспоминаний //Новое Русское слово. 1949. №13414 – Старое «Русское слово» издавал сам Сытин). Вероятно, в мемуаре речь идет о 1928 годе, поскольку в 1926 году Сытин еще переписывался с Главумзаком и в его письмах нет упоминаний о заключении.
Белоэмигрантская шумиха, ее опровержения Горьким и «Известиями» (Рыклин Г. Шинель без погон // «Известия» 1928. 12. 23. С. 5) способствовали освобождению Сытина.
Предположение о том, что Юрковский ошибается годом, подтверждается тем, что разоблачающий клеветников из «Руля» фельетон в «Известиях» вышел в конце декабря 1928 года. Эта история отчасти объясняет затворничество издателя в последние годы жизни, которое описывают его биографы, когда он, подобно заключенному, почти не выходил из своей квартиры на Тверской. Типография в Ивановском монастыре продолжала работать как минимум до мая 1927 года, когда она стала отделением типографии в Таганском доме заключения (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 567. Л. 131).
Медико-педагогический режим
После октябрьского прихода к власти представлявших угнетенные классы большевиков с устранением причин преступлений сами преступления теоретически так же должны были исчезнуть. Согласно классовому взгляду на общественное устройство, преступление порождается классовыми противоречиями и классовым угнетением. Поскольку преступность, против ожидания, не исчезла, то потребовались другие идеи — не отрицающие, но дополняющие и уточняющие классовую теорию. Общим представлением времени стала необходимость как переходного исправдома, так и переходного периода, для того чтобы человек мог исправить полученную за время классового угнетения деформацию. На переходное время вернулись дооктябрьские гуманные пенитенциарные идеи, основанные на представлении Руссо о природной доброте человека. В пролетарском государстве оно ограничивается и обогащается классовым подходом: не человек, а рабочий и крестьянин по природе не могут совершить преступление. Преступление трудящегося человека представляется результатом болезни, а исправление преступника подобно терапии возвращает человека к заложенным в нем природой и классовым происхождением основам, повреждение которых и стало причиной преступления.
В Москве для изучения болезненной склонности к преступлению в бывшем Арбатском арестном доме в октябре 1923 года открыт Кабинет (или Клиника) Мосздравотдела по изучению преступности и преступника. (Натаров Е.Ю. Арбатский арестный дом // Сайт «Это прямо здесь». https://topos.memo.ru/article/372+1). В 1924 году были организованы криминологические кабинеты в Киеве, Харькове, Одессе, а в 1925 году в Ленинграде. В это же время был создан Институт изучения преступности и преступника, кабинеты которого предполагалось открыть также в Саратове и Ростове-на-Дону. Согласно утвержденному к октябрю 1925 года штату, кабинету полагались криминолог, психиатр, психолог, педагог, обследователь и секретарь (Ф. Р4042. Оп. 5. Д. 22. Л. 8).
Изучение преступника одновременно должно было служить его излечению, поэтому, подобно клиническим больницам, следовало создать клинические места заключения.
Помощник начальника ГУМЗ Корнблит изложил тезисы программы лечебно-воспитательного учреждения для трудящихся в заметке «На фронте борьбы с юношеской преступностью», написанной для журнала «Рабочий суд» в ноябре 1925 года, в которой обосновывает необходимость отдельных учреждений «для тех, кому от 16 до 20» — кто не имел дефектов классового происхождения или гнета. По возрасту их должны были отправлять в исправительные дома. Корнблит указывает на то, что «смешивать этот контингент с общей массой нерационально», поскольку им «необходим особый режим медико-педагогический». Тут же Корнблит сообщает, что «Главное управление М<ест>З<аключения> уже приступило к созданию Трудового дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 5б. Л. 142). Автор отправлял заметку из колонии в Авдотьине-Тихвинском, которая в это время была «переходным исправительно-трудовым отделением» МФТК в Ивановском монастыре. В середине октября 1925 года она стала описанным в заметке учреждением. «Особый» режим действовал в колонии два с половиной месяца. Его отмена стала следствием не сворачивания «медико-педагогического» учреждения, а его расширения. В октябре 1926 года в Ивановском монастыре было открыто Экспериментально-пенитенциарное отделение Государственного института по изучению преступности и преступника (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 145. Л. 128). Аббревиатура названия чаще всего была неполной — ЭКСПОГИ.
Ощущение благозвучия буквально вслед за идеологией отрицало преступность и преступника. Встречаются в документах и неусеченные варианты аббревиатуры: ЭКСПОГИПП и «ЭКСПОГИ» п/п.
Регулярно звучное название выглядит именем собственным: ЭКСПОГИ.
Устройство пенитенциарной клиники, помимо прочего, означало отказ от идеи воспитания производством. Одновременно с открытием 13 октября 1926 года в монастыре ЭКСПОГИ начальник исправдома Улановский «за упразднением должности <...> увольняется за штат» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 473. Л. 325). Против обычного порядка его не оставили в Управлении, а откомандировали в распоряжение Московского комитета ВКПб (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 495. Л. 31). В более поздних документах ГУМЗ он не упоминается. Выглядящее изгнанием увольнение, вероятно, связано не только с личными конфликтами, но и с производственными планами Улановского. За месяц до своего увольнения Улановский уволил «начальника работ» Гункера Р. И., того, что вместе с Коломейцевым организовывал столярную мастерскую. В ноябре Гункер уже вернулся заведовать работами в ЭКСПОГИ. Справка, выданная Улановскому при увольнении, отмечала — возможно, не без язвительности — предпринимательские способности «хорошего хозяйственника, ставившего коммерческую сторону вверенных ему рабочих частей на должную высоту». До Лефортовского изолятора Улановский работал в Комиссариате внешней торговли. Одновременно внешне нейтральная и казенная формулировка рекомендательной характеристики указывала на идейное несоответствие начинаний начальника передовому исправительному учреждению, поскольку уволен он «ввиду реорганизации упомянутого места заключения в учреждение иного типа (курсив ЕН)». Учреждению же этого типа коммерческие инициативы Улановского не нужны (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 87. Л. 327; 495. Лл. 27, 34; РГАЭ. Ф. 413. Оп. 8. Д. 3724). 20 декабря 1937 года Улановский расстрелян на Колыме за «троцкистскую деятельность». Поскольку приговорила его «тройка НКВД по Дальстрою», то, возможно, он уже был заключенным (База данных «Жертвы политического террора в СССР» base.memo.ru/person/show/1456302).
Новый шаг
Директором ЭКСПОГИ, где изучалась патологическая основа преступления, стал сам идеолог пенитенциарной медицины, помощник начальника ГУМЗ, начальник московских мест заключения Леонид Корнблит, а его заместителем — Александр Семенович Орехов, который и был «фактически руководителем учреждения». Орехов принимал дела у Улановского, и циркуляры руководителям мест заключения в ЭКСПОГИ были адресованы не начальнику или директору, а заместителю директора. (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 26а. Л. 184; Д. 78. Л. 183; Д. 171. Л. 2). В московском справочнике 1927 года указано, что Орехов — начальник ЭКСПОГИ. Если в обычных местах заключения люди были объектом воздействия и воздействовала на них учебно-воспитательная часть — УВЧ, то здесь, поскольку воздействие сопровождалось изучением, часть была научно-педагогическая. Заведовала ей психолог А. Е. Петрова (Гернет М. Н. Государственный институт по изучению преступности в Москве // Право и жизнь. 1927. № 2; Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 477. Л. 17).
Проспект работы экспериментального отделения представляла опубликованная вскоре после его открытия статья Гернета. (Гернет М. Н. Государственный институт по изучению преступности в Москве // Право и жизнь. 1927. № 2) Обширная программа исследования и экспериментов предполагала изучение социальных и психологических факторов, поражающих болезнь преступления, и отрицала жестокость наказания — «мучительство». Она расширяла гуманную программу переходного исправдома. В оздоровительно-исправительных целях предполагалось помимо учебных занятий организовать спортивный, музыкальный, литературный драматический кружки; читать лекции, ставить спектакли, устраивать концерты, издавать журнал. Труд в мастерских выглядит не производством, а подобием занятия в кружке.
Тогда же «новый шаг в исправительно-трудовом деле» живописует статья, сохранившаяся в машинописной копии среди переписки ГУМЗ с «Рабочей Газетой» и «Рабочей Москвой». Часть ее посвящена Ивановскому отделению института, но и сам институт также находился в монастыре. Его устройство заняло несколько месяцев, и отделение формально воспроизводило оба учреждения, которые сменяли друг друга с 1923 года: «С 15 февраля с г.<1927> Пенитенциарный институт начинает функционировать. Для начала в нем организуются два отделения исправительно-трудового дома и фабрично-трудовой колонии и в дополнение к ним стационар для изучения отдельных групп заключенных. <...> Основным ядром, подлежащим направлению в исправительно-трудовое отделение, являются правонарушители-рецидивисты главным образом, по имущественным преступлениям; в отделении колонию будут отобраны лица совершившие впервые серьезные насильственные преступления. Для прививки заключенным трудовых навыков и выработки необходимой рабочей квалификации при отделении организованы типография и деревообделочное производство». ЭКСПОГИ выглядит производством при отраслевом НИИ, где «наряду со всесторонним изучением личности правонарушителя целью <...> является установление научно-практическим путем рациональных методов пенитенциарного воздействия; это своего рода лаборатория и опытно методический пункт по выработке этих методов». Особо заметка выделяет медицинский взгляд на природу преступления, который отличается даже и от передового воспитательного, поэтому «помимо пенитенциаристов-педагогов, привлекаются специалисты психологи и психиатры». Подобные гуманные методы развивали и опирались на дооктябрьские идеи, вполне соответствовавшие передовому мировому опыту. Но идеологам ЭКСПОГИ приходилось не подчеркивать общность с мировой гуманной практикой, а отмежевываться от нее, подчеркивая пролетарскую иноприродность: «В разных городах с 1922 года, совершенно независимо от опыта буржуазных государств возникают специальные криминологические кабинеты». (Ф.Р4042. Оп. 10. Д. 54. Л. 8-10) Была ли она опубликована, не известно. Указывать на разность требовалось потому, что идея об излечении человека, особенно молодого, от преступного пароксизма, была вполне в духе времени и не представляла собой достижение пролетарского государства.
Ее привлекательность была такова, что, например, действие романа Агаты Кристи «С помощью зеркал» (They Do It With Mirrors) происходит в подобном учреждении и, очевидно, в конце 1920 – начале 1930-х годов, когда преступления расследует Мисс Марпл.
Через год после открытия ЭКСПОГИ пленум Института, отделением которого оно было, подводил итоги: «Подвергнуты изучению явления растрат и сами растратчики, хулиганство и хулиганы, беспризорность и беспризорные дети» (Известия. 5.11.1927). «Медико-педагогические» инициативы ГУМЗ вступали в резонанс с «10-летием Октября». Юбилейное умонастроение сосредотачивало внимание на достижениях бесклассового общества. Поскольку невозможные с точки зрения пролетарской социальной теории преступления продолжали совершаться, идейная конструкция была риторически преобразована. Преступление и причины, его порождавшие, были убраны на второй план и считались следствием психической болезни. Историческим достижением стало исчезновение не преступления, а его последствий: тюрем и наказания. Лозунгом риторического упразднения тюрьмы была взята дооктябрьская формула гуманного отношения к преступнику: не карать, а исправлять.
Газеты рассуждали о преступлении как роде недуга, при котором заключение становилось не наказанием, а формой излечения: «Трудовая дружина помощи освобожденным из мест заключения <ленинградский "патронат"> своеобразная лечебница, продолжает работу исправдомов — помогает окончательно вылечится социально заболевшим людям» («Выздоравливающие» // Ленинградская правда. 25.01.1928; Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 466. Л. 19). Центральная больница для больных преступлением находилась в Ивановском монастыре. В массовой печати помимо «Известий» в 1927 году о пролетарском медико-педагогическом новаторстве рассказывает «Беднота», противопоставляя его прежним порядкам. Новое содержание помещено в кажущуюся прежней форму: «Тюрьмы при царском режиме были местами жесточайших издевательств <…> Наш закон в отличии от буржуазного не мстит преступнику, а старается сделать из него полезного гражданина». Заметка рассказывает об экспозиции «недавно организованного «Музея по изучению преступности и преступника», куда «каждый исправдом» прислал изделия своих мастерских. Их «добросовестное исполнение — рассказывает нам заведующий музеем Ильинский — сделало то, что все исправдома буквально завалены заказами государственных учреждений и фабрик. <...> Благодаря тесному помещению <музей> не может быть открыт для осмотра всеми». («За тюремной стеной» //Беднота 4.1.1927). Музей находился в Ивановском монастыре. С весны, когда началось Всесоюзное совещание работников мест заключения, до конца ноября 1928 года выставка «тюремного производства» открыта в Политехническом музее. Он должна была закрыться 31 октября, но была продлена («Вечерняя Москва» 20.03. 1928; «Вечерняя Москва» 25. 10. 1928; Солнце всходит и заходит // Известия 2.11. 1928; Всюду новая жизнь // Правда. 24.11.1928). В феврале 1927 года об институте снова пишет «Правда»: «помещается он в одном из бывших домов заключения Ивановском». Он нужен, чтобы, «изучив причины преступности вести борьбу с нею не только путем репрессий, но и путем предупредительных и исправительных мер» (Институт по изучению преступности // Правда 3.2. 27). Чтобы создать и усилить противопоставление исправления и наказания заключением в заметке подменено «бывшее» название учреждения. Домами заключения стали бывшие московские тюрьмы и арестные дома, но монастырь, напомним, сразу стал домом исправления.
В конце года в вышедшей, очевидно, к пенитенциарному пленуму заметке «Без решеток. Наука миру отверженных» про «институт преступности в быв Ивановском монастыре» снова рассказывает «Беднота». Буржуазные «кладбища живых» (каторга во Французской Гвиане) противопоставлены пролетарской политике «не мстить, а перевоспитывать»: «Здесь нет грубых окриков. Простое дружеское слово действует без понукания и наказания. Здесь нет карцеров и никого не наказывают. Некоторых отпускают еженедельно на один-два дня домой без охраны, и они сами возвращаются.
Все работают в отличных мастерских и получают заработок, как на фабрике, по труду и способностям. На всех работающих распространяется действие кодекса законов об охране труда.
В библиотеке-читальне, кружках физкультуры, музыки и пения, в театре — под руководством инструкторов — заключенные могут в часы досуга проявить свои таланты и получить знания, приобщаясь к интересам общественной жизни.
При чем здесь наука? А вот при чем. Каждый заключенный зачисляется на карточку и поступает под продолжительное наблюдение и изучение врачей и наблюдателя-интерна. Врач-психолог, врач-психиатор, хорошо знающие душевную жизнь человека и все ее отклонения, наблюдают и изучают убийцу, насильника, хулигана, вора. Перед наблюдателем стоит задача понять всю совокупность условий при которых случилось преступление. Как дошел человек до жизни такой, что его толкнуло — убивать, украсть, насиловать, мошенничать, хулиганить? Преступление это общественная болезнь. Причины болезни надо изучить — и тогда ее можно лечить» («Беднота». 17. 12. 27). Рассказ иллюстрируют фото «моделей сельхоз машин выделываемых заключенными в исправдоме» и «аппаратов для изучения душевных качеств преступника». 21 декабря эту же заметку опубликовал и иваново-вознесенский «Рабочий край» (Ф. Р4042. Оп. 1. Д. 61. Л. 223 об.). Весной 1928 года примером пенитенциарных достижений служит учреждение «без решеток» в Ивановском монастыре, цель которого «изучить и исправить конкретного преступника», его музей и «персонал в белых халатах». («Наша газета 25. 05. 1928; Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 466. Л. 110 об.). Эта публикация должна была предотвратить закрытие учреждения. Подробнее об этом ниже.
Административно укрепившиеся сторонники гуманных пенитенциарных идей в это же время снова открыли в Москве и собственно переходный исправительный дом. С 13 апреля 1927 года до как минимум октября 1928 года 1-м Московским переходным исправительно-трудовым домом был Новоспасский монастырь (Ф. Р4042. Оп. 2 Д. 477. Л. 15; Оп. 3. Д. 539. Л. 3).
Поскольку второго переходного исправдома не было, то с номерной частью (1-й) название было лозунгом, о значении которого говорилось выше.
Октябрьский «Ларек с комедиантами»
К сентябрю 1926 года, когда началась организация ЭКСПОГИ, школами и спектаклями исправдома ведал выпускник польского сектора Коммунистического университета народов (национальных меньшинств) Запада и студент 1 курса института имени Плеханова Давид Яковлевич Гершберг. Скорее всего назначение было прямо связано с преобразованием, поскольку на работу Гершберга взяли только 11 августа. Воспитательницей по-прежнему работала Клавдия Демьяновна Коробкина (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 98. Л. 230, 231; Оп. 8. Д. 495. Л. 20). В передовом учреждении культурная программа скорее соответствовала вкусам и культурному опыту аудитории, чем утверждению ценностей пролетарского государства: «В октябре был поставлен концерт коллектива артистов “Ларек с комедиантами", а в ноябре состоялось «три концерта-спектакля 6 и 7 ноября силами заключенных и 29. 11. концерт силами вольных артистов» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 100. Л. 166). Поставленные к годовщине Октября концерты были не слишком зависимы от идеологии праздника. Предполагалось, что мероприятия пройдут в два дня. Когда вышла директива о том, что для торжеств отводится не два дня, а один — 7 ноября. Концерт 6 ноября не отменили. Зрителями были не только заключенные: «Местные проф организации. Местком служащих ЭКСПОГИ и завком типографии устроили 6 ноября в клубе заключенных вечер, на котором силами музыкального и хорового кружка было поставлено пьеса «Шпион», декламация «Двенадцать» А. Блока и 13 №№ Пения и музыки («Эй ухнем», «Горные вершины», «Орел», «Испанская серенада», «Часовой», «Зозуля», «Дубинушка» и др). На вечере присутствовали члены КПК и участники художественных кружков. Для остальных заключенных были открыты читальня и ленинский уголок». Седьмого же ноября с 10 до 12 «прогулка-шествие по двору», за ней доклад: «9-й октябрь. Международное и внутреннее положение. (докладчик от райкома партии)» и резолюция: «… мы заключенные <...> констатируем гигантский рост...». За резолюцией последовал уже общедоступный «вечер самодеятельности силами показательных кружков УВЧ. Выступил зам директора ЭКСПОГИ тов. Орехов. <…> были поставлены 1) «Шпион» — драм-кружок, «Эй ухнем» хор, «Тишина» ром., «Часовой» хор, «12» – Блока деклам, оркестр 4 вещи. 2) «Полтинник погубил», «Тоска» романс, оркестр, «Калинка» хор, «Горные вершины» дуэт, «Романсы» (?) закл Советов, Частушки Октябрьские закл Советов, «Дубинушка» хор. Музыкальные дуэты, декламация и другие №№. Не удалось поставить живую газету и провести вечер воспоминаний за недостатком времени. 12. 11. 1926 зам директора Орехов, зав уч восп частью Гершберг. (Ф. Р4042.Оп. 4. Д. 145 Л. 139).
К 1926 году было написано несколько драматических произведений со словом «шпион» в названии. Ни одно из них не связано с революционными или послеоктябрьским событиями и все они обращены к национальной солидарности, а не классовой: В. В. Квадри «В 1812 году (Шпион)», С. А. Трефилов «Германский шпион: драматический эскиз в 1 д.» и Н. Н. Фон дер Ховен «Шпион: этюд из всемирной войны в 1 д.». Поскольку название последнего ближе других к тому, что указано в программе, предположим, что члены драмкружка разыграли этюд Николая Ховена о сербском ученом, убивающем себя, чтобы не служить в австрийской армии и не быть казненным за измену. Второе отделение открывала, скорее всего, миниатюра В. Ардова и В. Масса о растратчике пятидесяти рублей. Она явно входила в резонанс с судьбами многих зрителей, но не с темой торжественного вечера. Собственно праздничными были только частушки, к которым было вписано пояснение «Октябрьские», и фамилия их исполнителя (Советов).
Штатные места, заключенные, стационар, патронат и ремонт
Поскольку исследователи заняли кельи, заключенных стало меньше. В отчете лагеря 1919 года заключенные из 130 комнат занимали 111, в июне же 1927 года «общих камер» почти вдове меньше — 65 и другие помещения для заключенных не отмечены (Ф. Р393. Оп. 76. Д. 33. Л. 5). Напомним, что если в октябре 1926 года, когда открыли ЭКСПОГИ, в монастыре «среднесуточно» жили 370 заключенных, то в ноябре уже 355, а в декабре — 210. О двухстах заключенных говорится в статье Гернета. Чуть (за исключением марта) больше или меньше двухсот человек оставалось до августа 1927 года: в январе 180, феврале 221, марте 274, в июле — «среднесуточное» 187, а к концу — 216. В августе число заключенных сократилось до 164. В это время, вероятно, сократилось количество «штатных мест».
В списке мест заключения Московской области, составленном для «ассигнования кредитов на январь–март 1928 года», то есть скорее всего в декабре 1927 года, в ЭКСПОГИ количество мест — 300 и количество содержащихся — 340. Возможно, эта запись отражает принятое и вскоре отмененное решение о преобразовании, которое включало увеличение количества мест. Число заключенных, видимо, было предметом размышления и согласования. В списке, составленном к 27 января, в ЭКСПОГИ было установлено 250 мест и исправлено на 300. Заключенных было в это время 150, из которых трое еще были под следствием. В отчете помощника Мосгубпрокурора Андрея Христиановича Пумпур-Андреева от пятого апреля 1928 года: «штатное количество мест 180». Таким оно оставалось как минимум до июля. Большую часть 1928 года заключенных было около 150 человек: первого января — 150, пятого апреля — 154, первого июня – 142, первого июля по данным научно-педагогической части – 154, а в сводках ГУМЗ – 171. Расхождение в полтора десятка человек можно объяснить тем, что группа заключенных, прибывшая в конце июня – начале июля, в педагогическом отчете не учтена. Заключенных становится больше. Первого октября их 188. В 1929 году заключенных оставалось примерно столько же, сколько в 1928-м. Сведения за 1929 год выбраны из отчетов рабочих частей, которые учитывают количество работающих «по сложенности одного дня». При таком учете 1 человек, проработавший весь январь, это 31 работающий «по сложенности одного дня». В феврале 1929 года в монастыре было «среднемесячно» 173 заключенных (4849/28), а в апреле — 191 (5719/30). Более поздними сведениями не располагаем. (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 630. Лл. 26, 45: Оп. 4. Д. 145 Лл. 122, 131, 134, 142, 145, 317, 320; Д. 173 Л. 294, 296, 298, 301;Д. 174 Лл. 145, 150, 152; Д. 195. Л. 59; Д. 196. Л. 1; Оп. 10. Д. 69. Л. 102; Д. 78. Л. 183)
Сокращение «штатной численности» в августе 1927 года, возможно, связано с тем, что в это время частью научного учреждения в монастыре было еще и — упоминаемое выше в заметках — медицинское. В апреле 1928 года «в стационаре (клиническое отделение института в ведении НРКЗдрава)» находится 16 заключенных. Мест в стационаре — 50.
Находящиеся в учреждении Наркомздрава заключенные стационара учитывались отдельно от заключенных ЭКСПОГИ. Можно предположить, что в стационаре определялось, требуется ли заключенному лечение в психиатрической больнице.
С ним, вероятно, и была связана репутация ЭКСПОГИ среди заключенных. Давид Арманд, в 1927–1928 годах заключенный Сокольнического исправдома, вспоминал: «Среди урок много психов. Но трудно бывает отличить настоящих психов от симулянтов. Бывает, какой-нибудь запсихует, его волокут в карцер. В карцере он всякие штуки выделывает: воет, визжит, рычит сутки напролет. Или высунет в форточку руку и давай ею колотить по решетке. Я как-то наблюдал эту операцию, когда еще щитов на окнах не было. Окошко коридора — все в крови, рука — отбивная котлета. А псих все колотит и колотит об острый железный угол, непрерывно изрыгая богохульства и проклятия. Ну, такого возьмут на ЭКСПОГИ — Экспертный психологический институт или что-то в этом роде, что помещался в Щаповском (очевидная ошибка набора: И+в=Щ, п=н – ЕН) монастыре. Держат там недели две-три и возвращают –— “здоровехонький"!» (Арманд Д. Путь теософа в стране Советов. Воспоминания. М., 2009. С. 413).
Как минимум до весны 1928 года администрацию продолжал обременять открытый в 1926 году «патронат». Она предупреждала, что «наличие патроната ЭКСПОГИ может иметь нежелательные последствия в смысле общения с заключенными и облегчения побега последним. 29. 5. 28» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 67. Л. 18).
За открытием в монастыре новых учреждений последовал ремонт. Строительство было крупным, поскольку для него требовался инженер. О нем и «ремонтно-строительных работах ЭКСПОГИ» мельком говорится в описании заключенных апреля 1928 года. В 1927–1928 годах ЭКСПОГИПП перечислено среди покупателей лесоматериалов Лианозовской колонии (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 77. Л. 202). Среди прочего, вероятно, из этого лесоматериала в 1927 году построены ранее не упоминавшиеся в описаниях вышки. Одна их них находилась на крыше Корпуса №3 (дома причта, в котором с 1924 были «квартиры надзора»). Осмотр ЭКСПОГИ 5 января 1928 года установил, что «имеющиеся на постах вышки исправны» (Ф. Р393. Оп. 76. Д. 33. Л. 14, 14об.; Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 78. Л. 73). Хотя посты укрепили, помощник прокурора в апреле 1928 года заключал: «Нужно признать внешнюю охрану недостаточной <…> в лабиринте проходов и уголков при разбросанности и неприспособлености зданий б. монастыря под место заключения, побеги возможны и бывают» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 78. Л. 183). Через несколько недель, в мае 1928 года, подтверждая выводы Пумпур-Андреева, «путем взлома стекла в верхней раме перегородки отделяющей внутренний двор ЭКСПОГИПП от соседнего двора дома №2 (жилтоварищество)», бежали двое заключенных. Пойманый Хватов Н. Н. рассказал: «Через небольшое отверстие мы спустились в соседний двор и свободно вышли на улицу, дойдя до Покровки мы с Анисимовым (Александр Семенович – ЕН) разошлись в разные стороны» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 67. Л. 18). Жилтовариществом в доме №2, вероятно, стали бывшие покои игуменьи и кельи монастырской больницы, в которых, напомним, после открытия лагеря жил его комендант.
Мастерские
Если задачи колонии и исправдома требовали производственной однородности, то научные и педагогические цели предполагали разнообразие трудовых занятий. Так же как в лагере в начале 1920-х, мастерскими в отчетах становились те отрасли натурального хозяйства, которые в производственный период, возможно, также существовали, но для отчетов не требовались. Октябрьский отчет 1927 года подводил годовые итоги нового учреждения: «в 1926–27 бюджетном году в ЭКСПОГИ функционировали с октября по октябрь мастерские Ящичная, Столярная, и Сапожная, а с апреля по октябрь Музыкальная» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 522. Л. 231). На 6 декабря 1927 года уже «имеются 6 производственных единиц столярная 31 чел, ящичная 66, слесарная 31, музыкальная 7, сапожная 9, переплетная 6. всего 150 чел. Продуктовая лавка для заключенных 2 чел и парикмахерская 2 чел.» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 523. Л. 5). Заключенных в это время, предположительно, было 170–190, так как 1. 10. 1928 их 188, а «среднемесячно» в феврале 1929-го — 173.
К апрелю 1928 года, если переплетная мастерская и оставалась, то заключенные в ней не работали. В списке мастерских появилась портновская (2 человека) и «машинное отделение», где были заняты 27 человек. Сведений о роде их занятий нет. В самых крупных мастерских, тех, что остались от фабричного времени, работников стало меньше. В столярной — 17 человек, а в ящичной — 24. В кузнечно-слесарной мастерской работали 16 человек, в инструментально-музыкальной 6 и в сапожной 6 (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 78. Л. 183). Продукция мастерских в отчете не указана. Учреждение слесарной или кузнечно-слесарной мастерской предположительно связано с проходившим тогда строительством и ремонтом, для которых требовался инструмент и изделия из железа, например для кровель и стоков. Нуждами подсобного хозяйства были заняты работники портновской и сапожной мастерских. Можно предположить, что в «музыкальная» мастерская также была связано с нуждами мест заключения. Вероятно, в ней делали простые деревянные инструменты: трещотки, ложки для ансамблей и кружков. Крупный и предположительно государственный музыкальный заказ отмечает ревизор в декабре 1927 года, сетуя на то, что «такое обилие производственных и подсобных единиц при исключительно индивидуальных и при том мелких заказов за исключением музыкальной вызывает большую заботу для учета» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 523. Л. 5).
Среди мелких заказчиков были и крупные руководители. Дело «о краже материалов из сапожной Мастерской ЭКСПОГИПП», когда в ночь с 13 на 14 августа 1927 года были «сняты заготовки для русских хромовых сапог», сопровождали требования именем Корнблита ускорить дознание. (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 85 Л. 48-65).
Запутанный учет, к вероятной выгоде заказчиков и работников, затруднял выяснение того, какой доход получают мастерские, но для учреждения сколько-нибудь выгодными они не были. В январе 1928 года «обращая внимание на чрезвычайною высоту общезаводских расходов Рабочей части ЭКСПОГИ, ГУМЗ предлагает принять меры к их сокращению» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 523. Л. 1).
Предполагалось, что часть дохода мастерских в исправительных дома и колониях будет идти на содержание заключенных. Работа же в мастерских ЭКСПОГИ имела прежде всего научное значение. Поэтому, если доходов у них не было, средства должны были выделять другие колонии, в частности Шаболовская, которая, напомним, получила бывшее название Ивановской. 27 сентября 1927 года ГУМЗ сообщал «директору 1-й Московской фабр. трудовой колонии (Экспресс)» о необходимости «перечислить 4 тысячи рублей ЭКСПОГИ для зачисления их в фонд улучшения пищи названного места заключения» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 538 Л. 2). В долгой переписке директор «Экспресса» Ценовский объяснял, что «сумма изъята быть не может». Следствием этого и, вероятно, других отказов на подобные предложения и стало январское требование меньше тратить.
О работе мастерских, а также лавки и парикмахерской ЭКСПОГИ продолжало отчитываться как минимум до февраля 1929 года (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 630. Л. 45). В феврале 1930 года прежние мастерские уже закрываются, но лавка и парикмахерская останутся: «зав. лавкой и парикмахер содержатся за счет прибылей от лавки и парикмахерской» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 705. Л. 26).
Не сморкаться, не харкать на пол, не лежать в постели обутым и одетым
Пумпур-Андреев, оценивая возможность побегов, указывал, что в ЭКСПОГИ «содержится много заключенных со сроками свыше 3-х лет, даже 8 лет» и поэтому требуется «пересмотреть определение категорий» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 78. Л. 183). Пожелание связано с тем, что в нестрогом ЭКСПОГИ оказывались, в частности, видимо для изучения, приговоренные к длительному заключению, поскольку их отнесли при этом к третьей категории, то есть они не считались профессиональными преступниками или нетрудящимися (вторая категория) и им не требовалась строгая изоляция (первая категория).
Характер и быт «основной массы» заключенных 1927–1928 годов сохранился в инструкциях, которые санячейка ЭКСПОГИ утвердила 16 февраля 1927 года:
«Инструкция санитарии для заключенных ЭКСПОГИ.
Не сорить в коридорах опилками и вообще не разливать кипяток на пол, не бросать окурков, вытирать ноги при входах, не сморкаться, не харкать на пол, не лежать в постели обутым и одетым. В виде исключения во время обеденного перерыва может лежать без верхнего платья и обуви. Проветривать и подметать камеры не реже трех раз в день. Стыдно бояться свежего воздуха. Открытая форточка вредит только когда создается сквозняк. Следить за чистотой посуды, окон, стола, стен, углов; избегать сушки в камерах белья, валенок портянок, спецодежду держать только на местах работы, ни в каком случае не вносить ее в жилое помещение, ни тем более не садиться в ней за стол. Съестное держать в определенных для этого местах и прикрывать, выбивать одеяла и матрацы хоть один раз в две недели. В уборных все должно быть на своем месте, следить друг за другом. Стирку в уборной прекратить. Чистить зубы, промывать рот, хорошо подрезать ногти, короче стричься, отменить рукопожатие, без предупреждения в камеры не входить, войдя на кровать не садиться. Клопов выводить кипятком, паяльной лампой, чистить платье и обувь.
В клубе не плевать, не харкать, не сорить курение не допускать ни в коем случае, кроме репетиций. В парикмахерской сами посетители должны следить за дезинфекцией приборов и инструментов. Больные кожными болезнями должны иметь особое разрешение от врача.
Инструкция санитарии для персонала кухни.
Стричься короче, коротко стричь ногти, работать обязательно в соответствующей одежде, особенно следить за чистотой рук, посуды, кожи, ножей, стола и всего, что соприкасается с кухней и пищей. Вход посторонним на кухню безусловно воспрещается» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 197. Лл. 39, 40).
Образцовая библиотека в это время для просвещения оказалось непригодна «в виду того, что наличный состав заключенных ЭКСПОГИ в значительной мере образуют малограмотные рабочие и крестьяне, недостаточно подготовленные к пользованию обычной книгой», а в библиотеке «нет литературы популярного характера с картинками, крупным шрифтом», поэтому в феврале 1928 года педагоги ЭКСПОГИ просят об «отпуске 300 рублей», чтобы «усилить отдел методических пособий». Продолжительную переписку завершала резолюция: «сумма не может быть отпущена» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 196. Л. 167).
Картину быта дополняет не слишком обширная хроника происшествий, которая описывает бывшие в 1927 году «расследование по делу пьянства 4-х заключенных и 2-х надзирателей ЭКСПОГИпп 20.5. <...> во время выгрузки мусора» и дело «о краже в ЭКСПОГИПП револьвера системы наган у гр. Марочника заключенным Быковым». (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 84. Л. 69, 80-82; Д. 85 Л. 48-65). Марочник В. М. заведовал в это время другим воспитательным учреждением ГУМЗ — Московским трудовым домом для несовершеннолетних на Шаболовке.
Растратчики
В ноябре 1927 года с десятилетия Октября, с которым во многом и было связано расширение воспитательных научно-воспитательных идей и «тюрем без решеток», в ЭКСПОГИ начинался дошедший к весне до «Правды» скандал. Он был вызван тем, что только что изученные растратчики уже становились инородной группой, которую требовалось не изучать и исправлять, а подавлять. При этом хотя растратчики уже считались чуждыми государству трудящихся, в местах заключения они были самой близкой администрации группой. Политически им был положен физический труд, но администрации они были нужны для делопроизводства и бухгалтерии. Например, в Сокольническом исправдоме осенью 1928 года «67% от общего количества занятых в канцелярии заключенных — растратчики и взяточники» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 78. 299). Вероятно, примерно столько же, если не больше, растратчиков было занято и в канцелярии ЭКСПОГИ. 16 декабря 1927 года его дирекция просит «в связи с последним распоряжением ГУМЗ по ЭКСПОГИ о снятии с конторской и счетной работы всех заключенных, осужденных за растраты, взятки и мошенничество <…> установить штат конторских служащих» (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 523. Л. 6). Подобная просьба, скорее всего, была частью административно торга. Необходимость «установить штат», то есть выделить средства для оплаты вольных сотрудников, которые должны заменить снятых растратчиков, могла если не отложить решение «о снятии» растратчиков, то оправдать его неисполнение. В 1926 году «растратчик» Бауэр (предположительно Яков Янович), бывший член ВКПб и бывший контролер при Деткомиссии ВЦИКа, вел кружок политграмоты. У администрации сохранилась инерция благожелательности к растратчикам, следствием которой и стал скандал.
В марте 1928 года публицист «Правды» Арон Сольц, который участвовал в деятельности ГУМЗ, в частности, в 1928 году состоял в Комитете помощи освобожденным заключенным, узнал, что в ЭКСПОГИ «дали грамоту растратчику Раксанову, агенту центральной театральной кассы». В заметке «Дураки или...» он призывал «проверить работу этого государственного института <…> в одном из его отделений — Экспериментально-пенитенциарном — несомненно сидят или дураки или недобросовестные» (Правда 15.03.1928). Заметка отчасти стала результатом хлопот «растратчика», который, добиваясь досрочного освобождения, предъявил полученную в ЭКСПОГИ «грамоту». Корнблит был готов к разоблачительной публикации и к выходу номера мог отчитаться о принятых мерах. Еще 8 февраля он издал приказ: «...были получены сведения, что группа работников Экспериментального Пенитенциарного отделения и ГУМЗ ко дню десятилетия Октябрьской революции выдала от имени Отделения ряду заключенных и в том числе осужденному за растрату удостоверения, выражающие благодарность и отмечающие «плодотворную деятельность и заслуги, свидетельствующие о правильном и глубоком понимании гуманитарных задач, которые поставлены в основу всей деятельности Экспериментального Пенитенциарного отделения. <...> Ввиду того, что подобный поступок нарушает проводимую ГУМЗ пенитенциарную политику в отношении определенных категорий заключенных и что на выдачу подобных удостоверений не было испрошено разрешения ГУМЗ, ни совета Отделения. <…> объявляется выговор зав хоз частью К. Корбуту <...> строгий выговор с предупреждением об увольнении. Выданные им удостоверения считать аннулированными и отобрать их от заключенных. <…> Корнблит» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 652. Л. 422). Ксаверий Викентьевич Корбут, заведуя хозяйством, вероятно, был, как до него Орехов, «фактически руководителем учреждения». Когда заведующий заместитель поменялся, не установлено.
Недальновидные награды были также выданы в Сокольническом исправтруддоме и Лефортовском изоляторе. Несмотря на скандал, Корнблит 28 мая окончил дело порицанием: «К 10-летию революции некоторым заключенным Сокольнического <...> Лефортовского <…> и ЭКСПОГИПП<...> были выданы различные награды без ведома и разрешения ГУМЗ <…> отмечая нецелесообразность и незаконность подобных поощрений <...> ставит на вид» (Ф. Р4042. Оп.8. Д. 651. Л. 120). За три дня до этого приказа подведомственная ГУМЗ «Наша газета» явно в ответ «Правде» живописала отсутствие решеток в Ивановском монастыре.
В результате перераспределения или освобождения заключенных политически нежелательных к пятому апреля 1928 года среди них в монастыре уже не было: «Основная масса по бытовым преступлениям: убийства и ранения во время драки, на почве семейных раздоров и тп. <...> Растратчиков и взяточников в данное время не имеется. За исключением 117 УК. (разглашение служебных сведений — ЕН) <...> Бложко, как инженер использовался на ремонтно-строительных работах ЭКСПОГИ. <...> Большинство переведены недавно» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 78. Л. 183). «Рабочая газета» в мае 1928 года сообщала о распоряжении Корнблита «снять всех растратчиков с платных работ в мастерских и отправить на бесплатные тяжелые физические работы» (Рабочая газета. 15.05.1928; Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 466. Л. 102.)
К июню 1928 года, когда история с грамотами стала забываться, а штаты, вероятнее всего, установлены не были, растратчики и взяточники снова появились в ЭКСПОГИ. На 1 июля из ста пятидесяти четырех заключенных у одиннадцати было среднее образование, а у двух — высшее (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 195. Л. 59). Косвенно предположение о возвращении «растратчиков» подтверждает приведенное выше сообщение об их количестве в канцелярии Сокольнического исправдома осенью 1928 года.
Корнблит
Программа культурного воздействия на заключенных, о которой, в частности, уведомляла статья Гернета, скорее всего, учитывая реплику о нуждах библиотеки, включала самые простые занятия. Такими обычно бывали «хоровое пение» в музыкальном или хоровом кружке и «групповое чтение» — чтение вслух — в литературном. О регулярных спектаклях и концертах в отчетах научно-педагогической части не сообщается. О единственном спектакле этого времени известно из резолюции, в которой ГУМЗ «не возражает против постановки силами заключенных ЭКСПОГИ в клубе 1-го московского женского исправдома пьесы Горького «На дне». 24.11.1928» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 171. Л. 22). О гастролях мог договориться Михаил Федорович Ряпухин. В 1926 году он заведовал 1-м женским исправдомом (Новинской тюрьмой), а в 1927-м работал «младшим помощником директора по ЭКСПОГИ» (Натаров Е.Ю. Новинская женская тюрьма // Сайт «Это прямо здесь». https://topos.memo.ru/article/475+82; Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 78. Л. 65. Название должности связано с тем, что Ряпухин, очевидно, числился помощником Корнблита). Было ли представление этого спектакля в Ивановском монастыре, неизвестно, но можно предположить, что он был поставлен к годовщине Октября и играли в нем заключенные (растратчики?) со средним и высшим образованием. Среди них, скорее всего, был и получивший грамоту растратчик Сергей Германович Роксанов — артист и хореограф. Публикации искажают его популярную сценическую фамилию (ни Раксановы, ни Раскановы, об этом варианте — ниже, не разысканы).
Представляя достижение государства трудящихся, в 1927 году пенитенциарный гуманизм увеличивал административные возможности своих идеологов. В 1928 году хотя по инерции газеты публиковали заметки о «тюрьмах без решеток», но научно-педагогическое учреждение, бывшее главной витриной победы над тюрьмой, утрачивало свое передовое идеологическое положение.
Выявление психологических и социальных причин краж и растрат представляется все менее нужным трудящимся и пролетарскому государству.
Идея социального устройства государства трудящихся не предполагала, что в бесклассовом обществе могут быть собственные причины преступления, так же как и сознание трудящегося не может иметь требующих изучения дефектов.
Пропагандистский тезис о том, что преступление в пролетарском государстве — это результат болезни, как видно из многочисленных публикаций 1928 года, остается, но становится скорее метафорой временного, проходящего состояния. «Лечить» преступника следовало простыми средствами; физическим, «мозолистым» трудом, не отвлекаясь на социально-психологические влияния. Идеологическая перемена среди прочего означала закрытие Экспериментального отделения в Ивановском монастыре, которое началось с дискредитации идеолога исправительной клиники и ее руководителя Леонида Корнблита.
Вышедшая летом 1928 года статья «Корнблит за работой» в «Рабочей Москве» явно имела прикладное значение и должна была «вывести на чистую воду» заместителя начальника ГУМЗ. Подзаголовки статьи «Партмаксимум или заимствование из государственного кармана, Ну как не порадеть родному человечку» решительно проясняли, каков Корнблит за работой. Перечень проступков и упущений создает располагающий портрет гуманиста и театрала: Корнблит спрятал в Авдотьино-Тихвинской колонии попавшегося в «грязном деле» сына секретаря партийной ячейки, а заключенным Лианозовской колонии Кернеру, Груздевой, Феонову в 1927 году «была предоставлена возможность ночевать дома». Кроме того, Корнблит регулярно «радел родному человечку» — ссужал из личных средств Камерный театр, которым руководил его родной брат. За неимением свежих проступков, кроме растраты в месткоме, в которой Корнблита не обвиняли, статья вспоминает перевод двух заключенных: Вольского (эсера?) и Соколова в 1921 году в Ордынскую колонию, откуда они «ежедневно уходили домой». В заметке название места заключения осовременено: в 1921 году на Ордынке был лагерь. Завершалось разоблачение напоминанием об описанной Сольцем в «Правде» грамоте «растратчику», в этой публикации Расканову (Рабочая Москва. 19.07.1928; Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 466. Л. 141). Осенью начинается постепенная отставка Корнблита. 4 сентября «уполномоченным ГУМЗ по московским мз <местам заключения>» назначается Чугурин И.Д., а «тов Корблит освобождается от непосредственного руководства московскими местами заключения <...> с оставлением его в должности помощника начальника ГУМЗ (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 651. Л. 242)
Завершилось увольнение Корнблита к концу 1928 года. С 1 января 1929 года Корнблит «ввиду назначения на должность председателя Союзного Государственного треста новых строительных материалов освобождается от должности помощника начальника ГУМЗ» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 666. Л. 338). На работу в «Новостромтресте» Корнблит начал оформляться почти сразу после публикации разоблачения, одновременно с отстранением от московских мест заключения. Самый ранний документ его личного дела в Строительном комитете ВСНХ СССР датирован 27 августа 1928 года (РГАЭ. Ф. 5751. Оп. 3. Д. 17).
К увольнению из ГУМЗ он уже числится не директором ЭКСПОГИ, а сотрудником «Московского Кабинета института» (Ф. Р393. Оп. 82. Д. 31. Л. 3), но со своей главной должности в ГУМЗ все еще руководит учреждением. Его приказ в последний рабочий день — одновременно и новогоднее обращение, и завещание с просьбой не помогать разрушению: «31 декабря 1928 <...> по имеющимся сведениям отношения между отдельными сотрудниками административно-хозяйственного состава ЭКСПОГИ и научно-педагогической части носят недостаточно корректный и товарищеский характер. Напоминаю всем сотрудникам ЭКСПОГИ <…> всякое проявление взаимного недоброжелательства <…должно> встречать полную выдержку <…> пом нач ГУМЗ Корнблит» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 652 Л. 2). Взаимное недоброжелательство скорее всего вызывалось и усиливалось административной конкуренцией. Хозяйственный состав должен был отчитываться за производственные показатели, а производству мешали отвлекающие заключенных от работы работники научно-педагогической части.
В апреле 1929 года Корнблит — управляющий Московским городским банком. В 1942 году он возвращается к местам заключения и заведует хозяйством в Управлении лагерей и колоний Московской области (Штутман С. М. Внутренние войска. История в лицах. М., 2004. e-libra.ru/read/393271-vnutrennie-voyska-istoriya-v-licah.html; Ф. Р9414. Оп. 1а. Д. 14. Л. 36).
С первого января 1929 года в Главном управлении местами заключения Корнблита сменил Михаил Дмитриевич Герасимов Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 707. Л. 19, 63. Затем он же занял должность Корнблита в ЭКСПОГИ. В справочнике «Вся Москва» на 1930 год Герасимов значится не только заместителем начальника ГУМЗ, но и директором Экспериментального Отделения института в Ивановском монастыре. В другом разделе этого же справочника директором ЭКСПОГИ указан Корбут. Вероятно, что это сообщение в адресном справочнике отражает более раннее, временное или несостоявшееся, назначение. Корбут был заместителем Корнблита по хозяйственной части ЭКСПОГИ и поэтому мог быть временным преемником, но виновный в выдаче грамоты «растратчику» скорее предполагался к назначению, чем был на самом деле назначен. Вероятнее, что справочник сохранил административно-хозяйственную коллизию, связанную с тем, что ЭКСПОГИ к октябрю, когда собирались данные для «Всей Москвы», было вывеской несуществующего учреждения. Герасимов, преемник Корнблита в ГУМЗ, назван директором, но формально директором он не был. Приказ от 25 января 1929 года на эту должность его не назначал, но устанавливал, что «общее руководство и наблюдение над Экспериментальным Пенитенциарным отделением Государственного Института по изучению преступности и преступника возлагается на Герасимова М. Д.». (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 510 Л. 39). Завхоз Корбут, названный начальником в другом разделе справочника, занял, вероятно, ко времени скандала в конце 1927 года должность Орехова. Последний, напомним, заведуя ЭКСПОГИ, в документах числился заместителем Корнблита, а в адресном справочнике — начальником ЭКСПОГИ. До ЭКСПОГИ Корбут заведовал Центральным складом Главумзака. В 1935–1936 годах он живет в Ивановском монастыре и заведует расположенным тут же складом Метроснаба. 27 августа 1937 года его арестовали и 20 ноября расстреляли за шпионаж в пользу польской разведки (база данных; Ф. Р4042. Оп. 5. Д. 21. Л. 12).
Весной 1929 года у ЭКСПОГИ появляется сельское и первое время женское отделение: «29 марта 1929 года Сельско-Хозяйственную колонию "Лобаново" при 1-м Московском Женском Исправтрудддоме со всем активом и пассивом передать Экспериментальному Пенитенциарному Отделению Государственного института по изучению преступности и преступника» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 510. Л. 60). Эта колония открыта в 1927 году и была отделением бывшей Новинской тюрьмы.
При этом в производственных сводках ЭКСПОГИ в последний раз отмечено в апреле, а в мае и июне о работе отчитывается только недавно переданное ему отделение (Ф. Р4042. Оп. 3. Д. 630. Л. 8, 16, 22, 24, 26, 33). Это самые поздние сведения об ЭКСПОГИ в отсмотренном корпусе документов, которыми мы располагаем. Поскольку в справочнике на 1930 год указаны два руководителя ЭКСПОГИ, то до октября 1929 года учреждение продолжало существовать. К концу года оно, скорее всего, было закрыто, поскольку место заключения в монастыре было еще раз преобразовано и переименовано.
После преобразования, о котором ниже, в монастыре оставался научно-пенитенциарный преемник ЭКСПОГИ. Вероятно, это Московский кабинет института изучения преступности и преступника. В приказе 25 февраля 1930 года, относящемся к учреждению в Ивановском монастыре, упоминаются «4 младших надзирателя, обслуживающих Институт» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 705. Л. 26). К началу 1930 года научно-педагогические меры не отставлены вовсе, но основным средством вразумления и исправления считается труд.
Документов об устройстве учреждения в 1929–1930 годах в отсмотренном корпусе документом отложилось немного. Подобно истории вверенного директору Улановскому исправдома, завершившейся в 1925 году перечнем бюрократических преобразований, настоящий очерк вынужденно также завершается сводкой переименований и переустройств.
Согласно «Всей Москве» на 1930 год, в Ивановском монастыре кроме ЭКСПОГИ находится и мастерская Главумзака «Радио-арматура». Оборудование этой мастерской в 1925 году еще принадлежало Николаю Александровичу Топорову и Николаю Николаевичу Свищеву, владельцам «Радиоарматуры» на Полянке, 12. В 1927 году его перевезли на Каляевскую, 33, где до этого была мастерская Кузьмы Дмитриевича Титова «Метровесотехник» — «изготовление гирь весов с правительственным клеймением». Открытая на Каляевской мастерская с тем же названием. что на Полянке, подчинялась ГУМЗ. Произведенная в ней «радиоарматура» — провода, динамики и пр. — использовались для радиофикации тюрем, о которой много писали в это время газеты (Очерк истории...).
В производственных отчетах 1927–1928 годов она называлась Электро-радио и электро-механической. Ее массовой продукцией в Ивановском монастыре стали электрические выключатели, в ноябре 1929 года их сделали 1003 штуки. Эти данные служат показательным началом производства, и можно предположить, что делать выключатели начали в октябре – ноябре. Устройство нового производства, вероятно, и вызвало перерыв в рабочих отчетах. Предположительно в октябре–декабре 1929 года, после переезда «Радиоарматуры» и с организацией однородного фабричного производства, монастырь снова стал называться фабрично-трудовой колонией –— Второй. 8 февраля 1930 года предлагается увеличить оклады для более квалифицированных работников «в связи с увеличением выпуска продукции по радиомастерской 2-ой московской фабрично-трудовой колонии вдвое против предполагаемого».
В феврале 1930 года началась в соответствии с требованиями времени форсированная индустриализация мест заключения. 6 февраля 1930 года Московские исправительно-трудовые дома, колонии, фабрики ГУМЗ и Комитета помощи заключенным стали «Объединением Московских фабрично-трудовых колоний ГУМЗ». Реформа, судя по обмолвке в документе того времени, в обиходе называлась переходом «на колониальную систему». Объединение должно было стать подобием треста, теоретически отличаясь от обычного тем только, что работники его предприятий приговорены к работе за совершенные преступления. Добиваясь производственно-административной гармонии, Объединение за год переустраивали несколько раз, особенно часто в феврале и марте. После меняющихся номерных названий в приказах появляется историческое и понятное — Ивановский.
Приказ от 8 февраля еще касается 2-й московской фабрично-трудовой колонии, а 18 февраля 1930 года реорганизуется «бывш. 2-ая Моск. Фабрично-трудовая колония». Уточнение «бывшая» потребовалось потому, что к этому времени 2-й фабрично-трудовой колонией стала бывшая первая — шаболовский завод «Экспресс» и несколько расположенных рядом с ним других заводов, а ее отделением — находившийся тут же на Шаболовке с Сиротском переулке Исправительный дом для несовершеннолетних. Уточнение «быв. 2-я ФТ колония» регулярно сопровождает в конце февраля — марте 1930 года меняющиеся названия учреждения в монастыре. 18 февраля «бывш. Мясницкий исправтруддом и бывш. 2-ая Моск. фабрично-трудовая колония реорганизуются в Отделение 6-ой Московской фабрично-трудовой колонии /Комбинат/ под наименованием "1-е Отделение фабрично-трудовой колонии "Комбинат"». Ивановский монастырь стал административным центром отделения. Согласно циркуляру от 5 марта 1930 года, который связывает историю Ивановского монастыря со 2-й фабрично-трудовой колонией, «Управление 6-ой фабрично-трудовой колонии "КОМБИНАТ" находится по Крестьянской площади, д. №10, бывш. Ново-спаский монастырь <...> Управление 1-го отделения колонии "Комбинат" (бывший Мясницкий исправдом и бывшая 2-ая моск. ф.т. колония) помещается по Солянке, мал. Ивановский пер. д. 2». Очевидно, чтобы избежать сочетания «отделение отделения», части Отделения называются корпусами: «1-й корпус (быв. 2-я МФТК)» и «2-й корпус (быв. Мясн. ИТД)». Отделением заведовал комендант, а корпусами — заведующие. Через два дня после издания приведенного выше адресного циркуляра 6-ой колонией стало ее бывшее Отделение, состоящее из Ивановского монастыря и Мясницкого исправительно-трудового дома: «1-е Отделение Колонии-Комбинат реорганизовать в Кожевенно-Сырьевую (6-ю) колонию». 30 марта «быв. Мясницкий исправдом переименовывается в Мясницкое отделение 6-й кожевенной колонии», а Ивановский монастырь соответственно становится Ивановским отделением 6-й кожевенной фабрично-трудовой колонии. В Мясницком отделении были устроенные в 1926–1927 года фабрика приводных ремней и шорно-сыромятная мастерская. Подобная мастерская должна была быть устроена и в Ивановском отделении: в его штате был утвержден мастер по кожевенному производству. Продолжает расти производство выключателей: в марте 1930 года их сделали уже 45 тысяч. Новые мастерские занимают помещения старых — «деревообделочного и ящичного цехов», для которых 25 февраля 1930 года штат установлен «по мере надобности» «в связи со свертыванием деревообделочного производства». При этом растущее производство выключателей планировалось перенести, поскольку авторы «перехода на колониальное устройство» старались избавиться от производственной чересполосицы, указывая на то, что «в колониях с однородными производствами имеются предприятия, ничего общего не имеющие с основным видом работы. <...> В составе кожевенной колонии — радио-мастерская» (Герасимов М., Рахмалевич Б. Объединение фабрично-трудовых колоний ГУМЗ РСФСР //Административный вестник. 1930. № 5. С. 60).
Устройство треста ГУМЗ во многом основывалось на расширении борьбы с образованными «вредителями», которые в это время постепенно заменяют социально чуждых «растратчиков». В заключении «вредители» занимали инженерные должности. Указание в штатном расписании, что «строительно-ремонтные работы ведутся инженерами из числа заключенных», означает, что оплата вольнонаемного инженера не предусмотрена. Вероятно, мастерские устроены не были, поскольку в летнем приказе упоминается только один цех. Летом 1930 года монастырские помещения занимает учебное заведение для милиции, а в еще существующей колонии остаются только те заключенные, которым разрешено отбывать наказание без постоянной охраны: 26 июля «в связи с размещением Административного института в помещении Ивановского отделения 6-й ФТКолонии <…> Ивановское отделение считать в составе колонии отделением открытого типа с числом штатных мест 100. Внутренний двор примыкающий к архиву переоборудовать под сортировочный цех. Механический цех перевести <…> все остальные помещения освободить <...> расходы отнести на счет института». Институт, в данном случае Административный, занял место прежнего — Изучения преступности и преступника. Архивохранилище губернского архива с 1926 года размещалось в главном монастырском храме, а «сортировочным цехом», местом перебора кожи, должен был стать двор между западным фасадом храма, галереями и келейным корпусом.
В октябре отделение кожевенной колонии в монастыре начинает закрываться. Приказом от 6 октября в «штат 6-й кожевенной колонии вносятся изменения <…> должность коменданта Ивановского отделения упраздняется <…> должность коменданта Мясницкого отделения переименовывается в должность коменданта колонии». Хотя монастырь останется отделением 6-й колонии, но с конца октября в нем будет одновременно находиться колония с другим номерным и отраслевым названием. Такое положение возможно, поскольку колония могла быть как и местом лишения свободы, так и предприятием, в котором работают заключенные. В приказе от 24 октября, которым постановлено «организовать <...> Строительную колонию», указано, что она называется «строительная колония №9 — СКО ОФТ ГУМЗ <...> Лишенные свободы, работающие в СКО, содержатся в Ивановском отделении 6-й Московской кожевенной колонии». Частью разместившейся строительной колонии было архитектурное бюро.
В августе 1930 года «Строительному подотделу ОФТК — ГУМЗА требуются для работ в Москве Инженеры-строители, техники, Чертежники». Адрес для обращений — М. Ивановский пер. 2. 6-я Фабрично-трудовая колония ГУМЗ («Известия» 1930. 12. 08 С. 6)


За 1930 год в колонии сменилось несколько начальников. Можно предположить, что в начале года колонией еще заведовал Ксаверий Корбут. С 6 по 18 февраля начальником всей кожевенной колонии был И. Е. Бунин, вероятно, он же заведовал и Ивановским отделением, потому что 18 февраля «бывший помощник начальника быв. 1-го Женского исправдома переводится на должность Зав отделением колонии комбинат с возложением обязанностей по завед корпусом бывш 2-й московской фт колонии». 8 апреля комендантом Ивановского отделения 6-й кожевенной колонии назначается Александр Михайлович Рацкевич, 7 июля «Рацкевич А. назначается на должность коменданта Мясницкого отделения 6-й кожевенной колонии, Зельдович назначается на должность коменданта Ивановского отделения 6-й кожевенной колонии». До 8 апреля Александр Давыдович Зельдович был начальником Мясницкого отделения. К сентябрю Зельдович снова комендант Мясницкого отделения. Возможно, в это время особого коменданта в монастыре не было. 6 октября его должность упраздняется. Изданный 28 декабря 1930 года приказ среди прочих касается и Тармонина Д. И. — «начальника Строительной фтк», заключенные которой, возможно, продолжали жить в монастыре и строить Административный институт. (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 682. Л. 3 Д. 705. Лл.1, 15, 26, 42, 85, 97; Д. 706. Л.8, 26, 69, 96, 105, 107, 129, 130, 132, 177, 198; Очерк истории лагерей...)
В 1931 году заключенных из Ивановского монастыря переводят. Когда точно закрывается Ивановское отделение 6 колонии с заключенными 9-й строительной колонии, не известно, но в списке «мест лишения свободы», составленном 5 ноября 1931 года, который утверждает учебно-воспитательные части в колониях, «места» в Ивановском монастыре нет. Преемник Административного института — Университет МВД — занимает большую часть монастырских построек и сегодня.
Краткий перечень учреждений и руководителей 1919–1930 годов
Ивановский лагерь принудительных работ. Июль 1919 — август 1919
Ивановский Концентрационный лагерь особого назначения (полное), Ивановский лагерь особого назначения и Ивановский концлагерь (употребительные). Август 1919 — 4 декабря 1922
Когда известны даты назначения и вступления в должность нового коменданта, но несколько дней перечень выглядит так, как если бы были два коменданта одновременно
Семенов Борис Григорьевич не позднее 8 июля 1919 — 15 августа 1919 комендант
Квятковский Карл Казимирович 15 августа 1919 — не ранее 27 сентября 1919 комендант
Найчук Федор Давыдович (13 сентября — 10 октября помощник коменданта) 10 октября 1919 — 5 мая 1920 комендант
Миронов Федор Федорович 21/25 мая 1920 — не позднее октября 1920 комендант
Квятковский Карл Казимирович не позднее 12 октября 1920 — не позднее 4 марта 1921 комендант
Мартынов Иван Егорович 4 марта 1921 — 25 декабря 1922 комендант
(В отчете Красного Креста за апрель 1921 комендантом назван Квятковский. Поскольку нет сведений о том, что Мартынов в апреле 1921 года лагерем не заведовал, возможно, автор вписал имя недавно отставленного начальника.)
Ивановский переходный исправительно-трудовой дом (полное) / Ивановский исправдом (общеупотребительное), Московский Ивановский исправдом (в общероссийском списке мест заключения). 1 декабря 1922 — 18 декабря 1924
Егоров Михаил Иванович 13 декабря 1922 — 18 мая 1923 директор, начальник
Мищенко Андрей Яковлевич 23 мая (формально назначен) / не ранее 8 июня (отдает распоряжения) 1923 — 23 августа 1923 начальник
Маурин Яков Иванович (старший помощник начальника) 21–25-28 августа 1923 ВР. И. Д. (Временно исполняющий должность) начальника
Белов Иван Дмитриевич назначен 25–28 августа 1923 — 1 декабря 1924 года начальник
1-я Московская фабрично-трудовая колония с переходным исправительно-трудовым отделением, 1-я МФТК. 18 декабря 1924 — 16 октября 1925
Есипов Яков Васильевич 1 декабря 1924 года — 20 июня 1925 начальник исправдома, директор колонии
Улановский Александр Терентьевич 1 июля 1925 — 13 октября 1926 директор колонии, начальник исправдома
Московский исправительно-трудовой дом с переходным исправительно-трудовым отделением (полное), Московский исправдом МИТД (общеупотребительные), Ивановский исправдом (неофициальное). 16 октября 1925 — 13 октября 1926
Экспериментально-пенитенциарное отделение института изучения преступности и преступника ЭКСПОГИПП / ЭКСПОГИ / ЭКСПОГИ пп. 13 октября 1926 –— не ранее октября 1929
Корнблит Леонид Яковлевич 13 октября 1926 — 31 декабря 1929 директор (номинальный руководитель)
Орехов Александр Семенович 13 октября 1926 — не позднее ноября 1927 заместитель директора (фактический руководитель)
Корбут Ксаверий Викентьевич не позднее ноября 1927 — не ранее октября 1929 заведующий хоз частью (фактический руководитель)
2-я Московская фабрично-трудовая колония. Не ранее октября 1929 — не ранее 8 февраля не позднее 18 февраля 1930
сведениями о руководителе не располагаем
1-й корпус 1-го Отделения 6-й фабрично-трудовой колонии «Комбинат» (полное), корпус бывш. 2-й московской фт колонии (употребительное). 18 февраля 1930 — 7 марта 1930
Бунин И. Е. ? 6 февраля 1930 — 18 февраля 1930 заведующий отделением и комендант корпуса
Рацкевич Александр Михайлович 18 февраля 1930 — 8 апреля 1930 комендант корпуса, комендант отделения
Ивановское отделение 6-й (кожевенной / кожевенно-сырьевой) фабрично-трудовой колонии. 30 марта 1930 года —не ранее декабря 1930
Рацкевич Александр Михайлович 8 апреля 1930 — 7 июля 1930 комендант отделения
Зельдович Александр Давыдович 7 июля 1930 — не позднее сентября 1930 комендант отделения
Тармонин Д. И. октябрь 1930 ? — не ранее декабря 1930 начальник 9-й строительной колонии
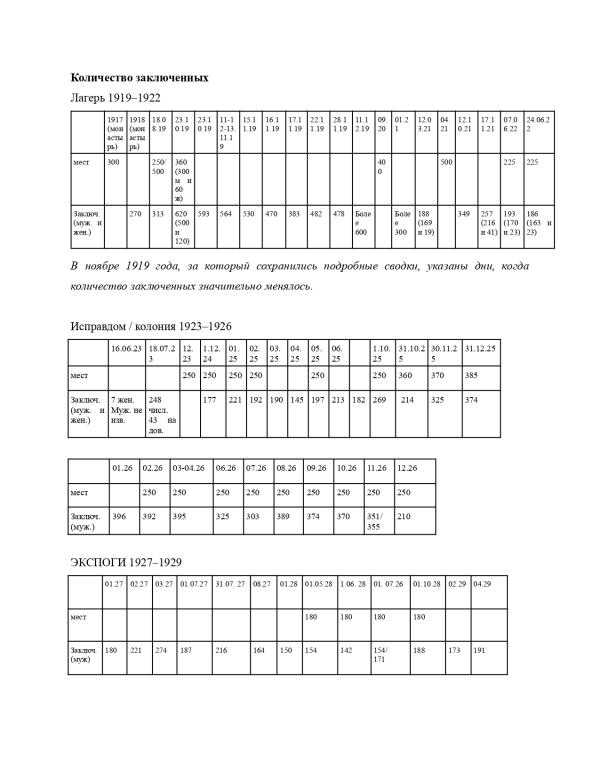
Исправительные дома и колонии — отделения учреждения в Ивановском монастыре
Колония «Воскресенское-Троицкое» декабрь 1922 — 23 февраля 1924
Ордынское отделение не позднее мая 1923 — декабрь 1923
Переходное исправительно-трудовое отделение колония Авдотьино-Тихвинское, 1-й Российским Реформаторий 26 июня 1925 — 16 октября 1925
Колония «Лобаново» 29 марта 1929 — не позднее 14 февраля 1930
Артисты, выступавшие в Ивановском монастыре
В концерте 13 августа 1923 года вероятно участвовал Афанасий Акимович Кравченко — на сцене Акимов певец и соавтор оперетты «Народный трибун» (РГАЛИ. Ф. 2492 Оп. 1 ед. хр. 383). С чечеткой, вероятно, выступал артист эстрады Василий Ефимович Коновалов (Федор Богородский. Воспоминания художника. М., 1959 С. 152). На морозовском рояле играла Вера Чернецкая-Меерович — младшая сестра более известной пианистки Эсфири Чернецкой-Гешлин: «Вера Чернецкая – недюженная пианистка. У нее замечательная по совершенству техника. Пассажная игра выше всяких похвал, по отчетливости и благородству звука. Тон настолько большой и полный, что не верится, чтоб эти мощные массивные аккорды извлекались руками женщины, да и притом еще изможденной несчастьем близкого лица» <сестры Надежды — ЕН>(И. Кн–ский <Кнорозовский Исай Моисеевич>. Концерт Веры Чернецкой //Театр и Искусство. Спб., 1912 №20. С. 414; Цицанкин В. С. Судьба музыканта. М., 2015 Указатель). А также, предположительно, московская пианистка Розалия Лазаревна Бескина. С конца 1916 до июня 1918 года она аккомпанировала в турне Вере Люце. Томский анонс называет ее пианистом Р. Бескиным. До конца 1920-х годов Розалия Лазаревна жила в Москве (Утро Сибири (Томск). 1916. 3 дек. С. 3; Рампа и жизнь. 1917. №2. С. 3 объявл; 1918. №25. С. 9; «Вологодский дом страхового общества. Хроника событий с 1906 по 1918 год» эл. публ. booksite.ru/fulltext/nep/ein/vol/ogda/hronica/hronica.htm). Танцевал — Василий Емельянович Гуманков из студии Веры Майи (Авангард и театр 1910–1920-х годов М., 2008. Указатель). Августа Сергеевна Трофимова с 1907 года служила в хоре Петербургской оперы, а в 1923 году, согласно изданному в Петрограде справочнику, в хоре московского Большого театра. Возможно, числилась она там недолго, поскольку в Московских справочниках этого времени среди хористок Большого она не фигурирует (Приложение к Ежегоднику императорских театров сезон 1912–1913 год. Пг. 1915 С. 91; Театрально-музыкальный календарь справочник на 1923 год. Пг., 1923 С. 362). Танцевать в концерте могла «энженю драматик» Евгения Дмитриевна Далина, в начале 20 века много игравшая в провинции: Орле, Нежине, Рыбинске, Сызрани, Архангельске, Вильне (в 1911 году «проявила себя довольно опытной артисткой») и Нижнем Новгороде (в 1912 году «в настоящей роли не показалась еще г-жа Далина»). Об игре инженю, по которой можно представить и танец, орловский корреспондент в 1913 году писал: «артистка с темпераментом, но однообразная». Но вероятнее, что с балетом выступала, скорее всего, более молодая Елизавета Кузьминична Далина. В 1912 году в 21 год она начала «деятельность в театре». В 1915 году инженю Е. К. Далина играла в труппе О. А. Комисаржевского в Сарапуле и Бирске. После 1941 года Елизавета Кузминична работала актрисой-суфлером в омском ТЮЗе (Театральная газета. 1913 №6 С. 8; 1915. № 12. С. 9; №13. С. 9; № 19. С. 9; №22. С. 10; Театр и искусство 1908 №39. С. 669; 1910. №22. С. 438; 1911. №. 24. С. 483; 1912 №1. С. 19; №40. С. 769; №45. С. 882; 1913. №13. С. 308; 1914 №22. С. 493; №33. С. 682; 1915. №3. С. 54; Рампа и жизнь. 1909. №13. С. 434; №10. С. 15; № 30. С. 15; Картотека библиогр. каб. Центр. Науч. Библ. СТД). О чтеце ХХ и эксцентриках Власовых сведениями не располагаем. Часто в афише скрывались имена известных артистов, которые по условиям договора с театром или импресарио не могли выступать на других сценах.
В концерте 3 сентября 1923 года предположительно участвовали: певцы Студии Большого театра Павел Иванович Румянцев, Зинаида Леонидовна Афанасьева и Берта Альбертовна Лясс (позднее актриса муз. театра им. Нем.-Дан.), а также дочь знаменитой М. Н. Климентовой-Муромцевой Ольга Сергеевна Венявская-Муромцева. Сохранилось воспоминание о ее исполнении: «В течение почти полувека я сохраняю благодарную память о замечательной камерной исполнительнице Венявской-Муромцевой, пленявшей слушателя редкостным обаянием своего исполнительского мастерства при более чем скромных вокальных данных» (Левик С. Ю. Записки оперного певца. М., 1962. С. 122). В 1926 году Афанасьева была артисткой театра-студии им. Шаляпина. Студийцы Большого театра сохранили ансамбль. В 1930-х годах Лясс, Румянцева, Афанасьева вместе участвовали в благотворительном концерте, организованный масонским «Орденом Света» (Орден российских тамплиеров. Том II. Документы 1930–1944 гг. М., 2003.С.110, 116). В концерте также участвовала сестра художника Леонида Фрешкопа: родная — актриса Татьяна Исааковна — или двоюродная — балерина Татьяна Яковлевна (Авдюшева-Лекомт Н. А. Леонид Фрешкоп. Русский художник в Бельгии. Межвоенный период жизни и творчества // Художественная культура русского зарубежья. 1917–1939. Сборник статей. М., 2008. С. 186).
Предположительно фамилия одного артиста и название инструмента, на котором он играл, были искажены, и соло на редкой виоле д’амур (Viola d’amour) исполнял Илья Осипович Брик, известный музыкант, виолончелист. Виола де оро в истории инструмента не описана (см. Струве Б. A., Процесс формирования виол и скрипок, М., 1959). Возможно, ошибка в программе связана с тем, что музыкант Рик был на слуху в 1910-е годы, поскольку Ю. Рик значился автором музыки нескольких популярных романсов ,исполненных Юрием Морфесси, и эта подпись может быть псевдонимном певца, поскольку читается как уменьшительная форма его имени. В концерте выступал Михаил Львович Львов (наст. Мытник), известный певец, преподаватель и историк вокала. В 1911–1912 годах Екатерина Александровна Краминская играла в Театре Корша, а в 1911 году также в Театре Сокольнического городского сада. В 1912 году в Никитском театре миниатюр «г-жа Краминская (Франция) очень мило спела песенку «Во Франции два мародера»». Летом 1914 года она состояла в труппе «Московских артистов под управлением Ив. Фед. Скуратова», спектакли которой в Сочи ставил ценимый ивановским культпросветом автор Чаргонин. Краминская — «квазицыганка», как назвал ее современник, исполняла романсы, в том числе с цыганским хором Н. Н. Кручинина в Малаховском театре. В 1916 году выступавшая в Екатеринославе труппа Лукина «пополнена г-жой <…> Караминской (арт московского Камерного театра — ingenue-comique)». В двух спектаклях, шедших в этом году в Камерном театре, она не участвовала. В конце 1920-х годов по тому же адресу, что актриса театра Корша в 1910-х, живет зубной врач Екатерина Александровна Крамер-Краминская. Первая часть фамилии, вероятно, настоящая, вторя — сценическая. (Марков П. А. Книга воспоминаний. М., 1983. С. 607; Костицын В. А. «Мое утраченное счастье…». Воспоминания, дневники. Т. 1. М., 2017. С. 181; Театр и Искусство 1914 №13. С. 308; №29. С. 623; Картотека библиогр. каб. Центр. Науч. Библ. СТД; Вся Москва).
Екатерина Сергеевна Серно-Соловьевич, в замужестве Сегаль — ученица знаменитого Умберто Мазетти. Под фамилией мужа (погибшего в 1913 году в Харбине оперного артиста Г. Сегаля?) в 1919 году она пела в постановках Советской оперы / Оперы С. Р. Д. В 1921 году Е. С. Серно-Соловьевич исполняла партию Ирэны в «Трагедии на музыке “Риенци"» — опере Вагнера, поставленной в театре Мейерхольда. В апреле 1923 года участвовала в нескольких спектаклях Оперы Зимина. Исполнила ту же партию в «Риенци» и партию Маргариты в «Фаусте». В 1926-м числилась в оперной труппе театра «Аквариум», а в 1929 году получила высшую третью категорию эстрадных артистов и право «самостоятельно заполнять программу» ("Правда нашего бытия": из архивов театра Вс. Мейерхольда. М., 2014. С. 41; Вестник театра. 1919. № 15. С. 11 (то же №18, 24, 25, 26 и пр); №23. С. 5. Театр и Искусство 1913. №20. С. 434; Известия 21. 04. 1923. С. 6; Цирк и эстрада №4 (54) 1. 03. 1929; Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. СПб. 2007. С. 907). Виртуоз балалаечник Сергей Большой в январе-феврале 1918 года выступал в театре «Подвал» в Леонтьевском переулке, а в конце 1940-х годов снова будет играть на балалайках, иногда на двух одновременно, в лагерях, гастролируя по Архангельской области в ансамбле заключенных. (Рампа и жизнь. (М.,). 1918. №2. объявл; balalaika.org.ru/peoples-bolshoj.htm; Пересада А.И. Справочник балалаечника. М.,1977; Афанасьев. А.В. «Балалайка –жизнь моя». Москва 2008. С. 43; Тамара Порфирьевна Чекмарева. Вокруг нее всегда кипела жизнь…// Коношсий курьер. 14. 03. 2017. konkur29.ru/archives/31508). В музыкальной студии Художественного театра занималась Софья Гавриловна Субботина. На рояле предположительно играл Сергей Минаевич Качкачев. В 1921 году он участвовал в концерте памяти Блока в Тифлисе, а в 1938 году заведовал плановым отделом в Дальстрое, где его арестовали, затем привезли в Москву и расстреляли (Лит. Насл. Том 92: Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 5. М. 1980 С. 806. Качкачев Сергей Минаевич (1887) // Проект «Открытый список». ru.openlist.wiki ). Алферов в списках МХТ и его студий не значится. Государственным академическим… –— ГАХТ — называлась гастролировавшая за границей труппа МХТ. Алферов П. П. — предположительно Павел Павлович Алферов, сын киевского присяжного поверенного. В пользу этого предположения говорят инициалы (другие Алферовы П.П. не разысканы) и интерес к искусству: в 1903 году Павел Павлович поступал в Строгановское училище (РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1 ед. хр. 214. Л. 1,2). Фамилия артиста Госоперы в афише, вероятно, передана с опечаткой. В адресных справочниках 1923–1924 годов указан артист Гарницын П. Н., и он же перечислен среди сотрудников сцены Большого театра.
Не отмеченные особо биографические сведения выбраны из справочников «Вся Москва» на 1917, 1923–1925, 1927 годы; "Театральная Москва" на 1926 и 1929 годы; История русской музыки. Том 10В. 1890–1917. Книга 1, 2 М., 2011 ).
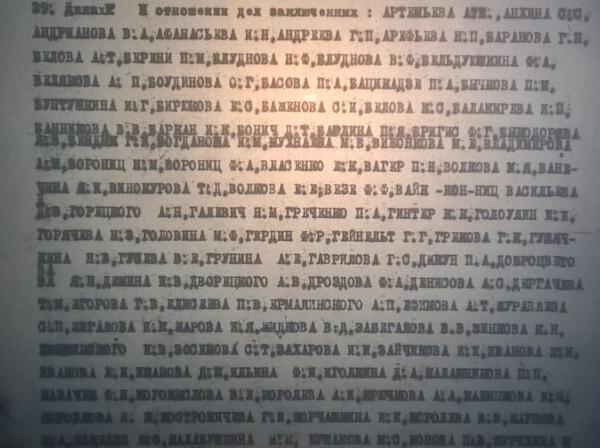
Фрагмент списка заключенных Ивановского лагеря в марте 1921 года. Источник: ГАРФ
В приложении помещены справки и очерки об упомянутых в ней заключенных. Большая часть сведений о заключенных взята из базы данных «Заклейменные властью. Услышь их голоса». (pkk.memo.ru). Биографические сведения, опубликованные в «Книге Памяти» и собрании прошений в Политический Красный Крест, которые напрямую не связаны с заключением, в справках ниже опущены. Сведения о дате рождения приводятся, когда это необходимо для уточнения обстоятельств. Справки, дополненные в архиве, снабжены также архивными ссылками, при этом отмечаются существующие расхождения. Сведения о заключенных, отсутствующие в «Книге Памяти» и собрании документов базы «Заклейменные властью...», представлены подробнее. Преимущественно прояснены личности заключенных, упомянутых в дневнике Малиновского, а также в лагерных документах, которые процитированы в истории лагеря, в частности тех, кто выступал на ивановской сцене,
Читать приложение «Ивановские заключенные»
